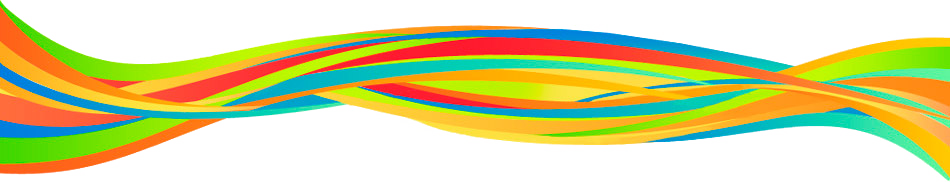
Тёрка в тагах
Большая Тёрка / Мысли /
модернизация россии

katehon
Свобода как фундамент и цель четвертой политической теории

13.04.2010
Семен Жаринов
"Свободным называешь ты себя? Твою господствующую мысль хочу я слышать, а не о том, что ты сбросил ярмо с себя. Из тех ли ты, что имеют право сбросить ярмо с себя? Таких не мало, которые потеряли свою последнюю ценность, когда освободились от своего рабства. Свободный от чего? Какое дело до этого Заратустре! Но твой ясный взор должен поведать мне: свободный для чего?"
Ф.Ницше. Так говорил Заратустра
Согласно Г.В.Ф. Гегелю, свобода, которая есть «субстанция духа», может реализоваться только в государстве, лишь в последнем человек становится подлинно свободной личностью. Так, немецкий философ связал понятие свободы с Политическим в форме государства. Это радикальным образом противоречит либеральной и марксистской теориям, которые утверждают необходимость освобождения от любых политического форм. Главным врагом для свободы человека и общества, по их мнению, является государство, этот жестокий Левиафан.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...В современной политологии и в обыденном представлении той политической теорией, что во главу угла ставит понятие свободы, является либерализм, который, с нашей точки зрения, узурпировал и исказил высокую идею. Современный теоретик либерализма Людвиг Фон Мизес пишет: «Люди привыкли всегда говорить о свободе с величайшей почтительностью. Такое отношение к свободе есть достижение либерализма…»[1]. Скорее благодаря либерализму свобода превратилась в стихийную хаотическую силу, которая сметает все и вся, традиции, мораль, религию. Покровителем же, «царем» такой свободы стал вестник хаоса лермонтовский «демон». Поэтому, свобода нуждается в обновлении, реабилитации и очищении от либеральных коннотаций и либертарианских извращений. Необходимо осуществить революцию (если использовать данный термин в этимологическом значении) идеи свободы, поставить ее на достойный пьедестал, сделать ее той осью, на которую должны быть нанизаны идеологемы Четвертой политической теории.
Итак, исходным пунктом демифологизации и деконструкции либеральной свободы является различие «свободы от» и«свободы для». Конечно, как в традиционном понимании свободы, так и в либеральном, так или иначе наличествуют оба эти аспекта. Различие заключается прежде всего в акцентах. Либерализм делает акцент именно на первом понимании свободы, т.е. на «свободе от». Федотов Г.П. в своей статье «Рождение свободы» так раскрывает эту ее: «Это свобода личности от общества – точнее, от государства и подобных ему принудительных общественных союзов. Наша свобода отрицательная – свобода от чего-то…»[2] Если перечислить все те «принудительные» феномены, от которых либералы предлагают освободиться, то получится внушительный ряд: государство с его контролем над экономикой и гражданским обществом, церковь с ее догматами, формы общинного ведения хозяйства, попытки перераспределять результаты труда («социальная справедливость»), этническая принадлежность, любая коллективная идентичность, гендерная принадлежность (в предельных случаях)[3].
Выдающийся либеральный мыслитель И. Берлин подчеркивает связь этой «негативной» свободы с либерализмом. Он резюмирует размышления классиков в отношении либеральной свободы: «Свобода в этом смысле означает только то, что мне не мешают другие. Чем шире область невмешательства, тем больше моя свобода»[4]. Утверждение этой «области невмешательства» подразумевает противопоставление частной и публичной жизни. Частная жизнь, согласно Дж.С. Миллю, есть сфера тех действий индивида, которые прямо касаются только его самого. Абсолютная независимость в этой сфере и есть индивидуальная свобода. Исходя из сказанного, хотелось бы обратить на два момента. Во-первых, если говорить о некоторой неопределенной «области невмешательства», которая может как расширятся, так и сужаться, то речь должна идти не о свободе, а об определенном уровне несвободы. Во-вторых, если подходить строго философски, существует ли на самом деле та сфера жизни индивида, которая касается только его? Марксизм, к примеру, считает подобную свободу иллюзией, т.к. мысли и поступки человека (который есть «ансамбль общественных отношений») детерминированы средой, в которой основную роль играют экономические отношения и классовая борьба. Для обоснования мифа об «области невмешательства» либерализму необходимо было создать миф о самодостаточном индивиде, индивиде как субстанции. Этот миф восходит к Декарту с его мыслящим субъектом.
Философ Руткевич А.М. отмечает, что для консерватора «частное не существует без общенародного»[5], для него человек «не является самим по себе существующим и только перед собой ответственным существом».[6] Но это не означает, что человек превращается лишь в социальный «кирпичик», теряя свою имманентную ценность. Все дело в особой консервативной антропологии, отличной от либеральной. Если консерваторы говорят о человеке, то он понимается не как индивидуум, а как личность. Индивидуум либерализма – это «нечто совершенно самостоятельное, основополагающее, не связанное ни с историческими, ни с социальными, ни с религиозными ценностями, мотивации, действия и реакции которого коренятся в удовлетворении личных эгоистических потребностей»[7]. Любопытно отметить, что в греческом полисе отдельный человек, лишённый связей с «демосом» и «полисом», оторванный от социальных, этнических и религиозных традиций назывался«идиотес». Таким образом, индивидуум есть атом, единица, т.е. совершенно количественное понятие. Будучи таковым, оно является чистой абстракцией, наподобие математических. Ю. Эвола считает, что «атомарный, несвязанный (solutus), «свободный» «индивид» принадлежит к царству неорганического и, соответственно, стоит на низших уровнях реальности»[8].
Личность же – «категория качественная и качество это определяется богатством и глубиной её духовного содержания»[9]. Личность есть социальный феномен, это человек со всем многообразием социальных связей, ролей и идентичностей (религиозной, этнической, политической, профессиональной, гендерной).
Оторванность понятия индивида от реальности подчеркивали различные мыслители. Для К. Маркса человек есть«социальное животное», т.е. если вычесть из человека социальность, то человек потеряет право называться человеком, становясь животным. Социальность здесь выступает как сущностный признак человека. Социолог Э.Дюркгейм утверждал примат социального, что вылилось в его концепцию «коллективного сознания», которое не сводимо к индивидуальным сознаниям. Евразиец Л. Карсавин со своей стороны предложил антииндивидуалистическое философское учение о«симфонической личности», которое явилось особым осмыслением православного учения о соборности[10]. Глубинная психология К.Г. Юнга так же нанесла урон мифу об автономном индивиде, но уже с другой, психологической стороны. Индивидуум становится здесь «не более чем функцией от бессознательного»[11]. Благодаря понятию коллективного бессознательного индивидуум был извлечен из своего психологического укрытия, и помещен во внеиндивидуальный контекст архетипов, как заметил А.Г. Дугин в своем курсе лекций по структурной социологии. Таким образом, человеку нельзя скрыться от «коллективности» ни на сознательном, ни на бессознательном уровнях. И действительно, можем ли мы помыслить индивида самого по себе? Сразу представляется мужчина или женщина, белый или черный, с той или иной прической, в том или ином костюме. Очевидна невозможность вырывания человека из социального, этнического, или гендерного контекстов. И кого же, таким образом, предлагает освободить либерализм? Голую абстракцию, пустое слово «индивид»…
Мысли упомянутых авторов поразительным образом сближаются с традиционной антропологией. Человек в традиционном обществе всегда мыслился как органическая часть некоей онтологической реальности более высокого порядка. Как замечает индолог Ерченков О., «человек существовал не сам по себе, как часть целого: общества, клана, религиозной общины, мира, Абсолюта, Бога и т.д.»[12] Общество рассматривается как некая космическая личность. Вспоминаются Адам Кадмон каббалы и Пуруша «Ригведы» как символы иерархизированного бытия общества и Универсума в целом. В православном же понимании тело человека есть член Тела Христова («Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы» (1-е Коринфянам 6:15)), а, с другой стороны, человек ценен лишь в силу того, что является творением Бога и что носит в себе образ своего Творца.
Либерализм, как показано выше, для обоснования своего специфического понимания свободы (притом весьма недавнего происхождения[13]), разработал концепцию индивидуализма. Вместе с тем, он подменил понятие свободы понятиемнезависимости. На это обратил внимание Ален де Бенуа: «Для древних свобода существовала прежде всего в возможности участвовать в общественной жизни. В противоположность этому для людей современности (les Modernes) свобода заключается, главным образом, в возможности от этой жизни уклоняться»[14].
Так почему же либералы боятся признать индивида органичной частью чего-то большего? Потому что либералы отрицаюторганицистский подход в социологии. Максимум о чем они могут говорить, так это о системе (от греч. ГНГД·ј±, «составленный»). Согласно системному анализу, система - совокупность сущностей и связей между ними, выделенных из среды на определённое время и с определённой целью. Данный подход адекватен либеральной концепции «общественного договора», с точки зрения которой, в конечном итоге, можно рассматривать любую человеческую общность как случайный, временный и произвольный результат договоренности индивидов во имя их частных прагматичных интересов. Органицизм же считает, что общество (а также народ, государство) представляет собой единый организм (ср. евразийскую«симфоническую личность»). Целостность членов организма нерасторжима, а каждый член не может существовать сам по себе, так же, как не может жить отдельно от всего тела рука или нога. Члены действуют согласованно и руководимы в своих трансформациях неким единым принципом[15]. Вот именно этого принципа и боятся либералы.
Леонтьев К. отмечает эту «беспринципность» либерализма: «Свобода! Освобождение!.. Но от чего и во имя чего? Во имя каких это новых созидающих, то есть стеснительных, принципов?»[16] Ничего он не хочет создавать, а тем более стеснять. Любые объективные принципы, ценности, «позитивные» идеалы, как пишет И. Берлин, приводят к авторитаризму, к уничтожению свободы[17]. Либеральная мифическая концепция предустановленной гармонии (восходящая к Лейбницу),которая приведет индивиды-монады (лишь бы никто не вмешивался) к упорядоченному состоянию, «решает» эту проблему отсутствия принципов. Но не есть ли этот порядок не что иное, как хаос, «война всех против всех»? И как в таком хаосе возможна свобода? Ф. Хайек считает порядком продукт неуправляемого взаимодействия свободных индивидов. По его мнению, беспорядочная игра общественных сил не вредит свободе, а сама является свободой. Для хоть какого-то обоснования данного мифа, Хайек прибегает к результату либерального гипостазирования, к «невидимой руке» рынка. Никакое внешнее рациональное влияние на общество неприемлемо, регулирование социальной жизни можно предоставить лишь рынку, т.к. его механизмы безличны и иррациональны, и именно поэтому не ограничивают свободу. То же самое пишет и Дж. Роулз. Он полагает, что принципы, которыми руководствуется общество, не должны вытекать из какой-либо нормативной теории, т.к. человек, а следовательно и общество, есть хаос, к которому не применимо никакое рационализирование. При этом хаос отождествляется с максимально возможной свободой.
Тем не менее, можно легко доказать, что в обществе-хаосе свобода немыслима. Считается, что «свобода от» якобы расширяет поле выбора человека. Но выбор – это всегда выбор какой-то стратегии, пути, устремленного в будущее. Чтобы выбор состоялся нужно знать внешнюю среду. Общество же как совокупность свободных индивидов делает выбор по отношению к будущему совершенно неопределенным. Следовательно, «свобода от» человека есть его полная несвобода через несвободу общества[18]. Да и вообще, если свободу сводить к свободе выбора, то стремиться к ней, а значит и делать ее фундаментом идеологии, нет смысла, так она есть всегда. Даже ограниченный обстоятельствами «человек не только может, но и реально всегда выбирает самого себя, свой поступок, — то, кем он будет в сложившейся вокруг него ситуации. Эта свобода самоопределения неустранима из человеческого бытия, человек, по выражению Сартра, "обречен на такую свободу"[19].
Конечно, либералы могут возразить: «А как же верховенство права?» Но как может некий светский закон стать безусловным авторитетом для «свободного» индивида? «Гражданский закон сам за собой не признает незыблемого характера религиозного догмата… Он меняется…»[20] - замечает К. Леонтьев.
Таким образом, невооруженным глазом видна вся противоречивость, безжизненность и разрушительность либеральной концепции свободы.
Если понимать свободу как свободу реализации личности, то в этом случае можно сослаться на учение о «симфонической личности». Реализация человеческой личности возможна только благодаря осуществлению ее как части чего-то большего, т.е. только посредством интеграции в иерархию личностей, которые все вместе составляют единый организм, симфоническую личность. Высшая степень упомянутого процесса поясняется понятием жертвы. Личности жертвуют собой ради блага целого и тем самым максимально актуализируют свою сущность[21].
Этимология слова «свобода» говорит о том, свобода изначально понималась как «свобода для», и что она связана с идеей принадлежности к некоему своему окружению, роду, племени. Это была свобода для своих[22]. «Свобода для» всегда связана с каким-то конкретным целепологанием, т.е. личность в этом случае выбирает некоторую цель, которой служит,подчиняется. Согласно христианскому учению именно такое подчинение (обусловленное «свободой для») приводит к свободе самой по себе: «если пребудете в слове Моем…, и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8: 31, 32). Это значит, как сказано в «Социальной концепции Русской Православной Церкви», «что подлинно свободен тот, кто идет путем праведной жизни и ищет общения с Богом, источником абсолютной истины». В индуизме достижению полного освобождения предшествует подчинение некоему безличному онтологическому закону, который обозначается термином «дхарма» - это те неснимаемые обязанности и ответственность, которые накладывает само Бытие. Дхарма дифференцируется в зависимости от варны и касты. Кроме того, дхарма – это неотъемлемое свойство вещи. Аналог дхармы в даосизме – Дао («путь») – естественный порядок вещей[23].
Исходя из этого, можно выделить два необходимых для нашей цели уровня свободы: 1. свобода как путь, средство и как отправная точка («свобода для»); 2. свобода как цель, как некое онтологическое состояние.
Аналоги этих двух типов свободы имеются в индийской традиции. Свободе как цели соответствует мукти(«освобождение»), что обозначает абсолютную реализацию человека, слияние с Брахманом. Аналог свободы как пути - сватантрия (букв. «следование по своей нити или судьбе»)[24]. Путь есть свободно принятая ответственность и труд, если угодно, борьба, жертвенная борьба, которая приводит к «рождению свыше», что есть онтологическая свобода, свобода как цель.
На знамя Четвертой политической теории должна быть поднята именно свобода в традиционном понимания, подлинная, укорененная в бытии, «свобода для»! Для чего? Для Целого! Во имя великих идей, великих принципов и великих ценностей! Но сознательно принятая такая свобода не есть покой или нечто удобоносимое. Она нелегка, это особое духовное «бремя». Принятие этого «бремени», ответственности делает нас свободными. Ведь то, за что мы не отвечаем, бытует само по себе, формируя обстоятельства, детерминирующие наше существование без нашего участия. Примером свободной (в нашем понимании) личности может быть наш первый царь Иван Васильевич. Он был поистине «тягловой личностью», олицетворением и средоточием «тяглового государства», он водрузил на себя ношу отвечать перед Господом за все Царство и за каждого подданного. Это и есть подлинная свобода как путь, которая в эсхотологической перспективе ведет к онтологической свободе как цели.
Примечания:
[1] Мизес Л. фон. Либерализм. Челябинск: Социум, 2007.- 344 с.
[2] Г.П.Федотов. Рождение свободы (Впервые напечатано в «Новом журнале», Нью-Йорк, 1944, № 8, с.198-218).
[3] Дугин А. Четвертая политическая теория. Россия и политические идеи XXI века. – СПб.: Амфора, 2009. 32 с.
[4] И. Берлин. Две концепции свободы // Современный либерализм. М., 1998. С. 19-43.
[5] Цит. по: Попов Э.А. Русский консерватизм: идеология и социально-политическая практика. – Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 2005.
[6] Там же.
[7] Вологин Е.А. Общество «Мемориал» как элемент цивилизационной антисистемы / http://www.ugtu.net/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=348
[8] Эвола Ю. Люди и руины. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2007. 36 с.
[9] Там же.
[10] Карсавин Л. О личности. / Карсавин Л.П. Религиозно-философские сочинения. Т. 1. – М.: «Ренессанс», 1992.
[11] Лекция №1 Структуралистская топика социологии (курс Структурная социология) (25.02.09) проф. Дугин / http://konservatizm.org/speech/dugin/080309205432.xhtml
[12] Ерченков О.Н. Понятие свободы в традиционном обществе и его трансформация в философии Модерна. / http://aryadev-beda.livejournal.com/6204.html.
[13] «Трактовка сферы частной жизни и личных отношений как чего-то священного в самом себе проистекает из концепции свободы, которая, если учесть ее религиозные корни, получила законченное выражение лишь с наступлением эпохи Возрождения или Реформации» (И. Берлин. Ук. соч.).
[14] Ален де Бенуа. Против либерализма. / Русское время. Журнал консервативной мысли. № 1 Август 2009. 70 с.
[15] Грицанов А.А. Органическое общество / Энциклопедия социологии. Сост. Грицанов А.А., Абушенко В.Л., Евелькин Г.М., Соколова Г.Н., Терещенко О.В. – Минск: Серия "Мир энциклопедий", "Книжный Дом", 2000.
[16] Леонтьев К. Передовые статьи «Варшавского дневника» 1880 года / Русское время. Журнал консервативной мысли. № 1 Август 2009. 56 с.
[17] «Плюрализм более человечен, ибо не отнимает у людей (как это делают создатели систем) ради далекого и внутренне противоречивого идеала многое из того, что они считают абсолютно необходимым для своей жизни, будучи существами, способными изменяться самым непредсказуемым образом» (И. Берлин. Ук. соч.).
[18] Субетто А.И. Свобода. Книга первая. Критика либерального разума. (Научная моно-графическая трилогия). – СПб. – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2008. 51 с.
[19] Анисин А. Консерватизм, традиция и онтологическая свобода человека / http://www.pravoslavie.ru/jurnal/317.htm
[20] Леонтьев К. Ук. соч. 56 с.
[21] Карсавин Л. О личности. / Карсавин Л.П. Религиозно-философские сочинения. Т. 1. – М.: «Ренессанс», 1992. С. 139.
[22] Древнерусское и старославянское собьство – «свойство» и «существо», «общность» (Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: 2 т. – 3-е изд., стереотип. – М.: Рус. Яз., 1999, с.148). «В самом русском языке слово «свобода» восходит к общеславянским корням: сва (своя) обода (окружение, община, общество)» (Ерченков О. Ук. соч.).
[23] Ерченков О. Ук. соч.
[24] Там же.
источник - http://konservatizm.org/konservatizm/theory/130410163922.xhtml
- Нет комментариев

katehon
Oпричнина – модернизация по-русски
Как во тереме живет православный Царь,
Православный Царь Иван Васильевич.
Он грозен, батюшка, и милостив,
Он за правду милует, за неправду вешает.
Народная песня
.
Глупцы только, которые не знают обстоятельств его времени, свойств его народа и великих его заслуг, называют его тираном.
Петр I
Виталий Аверьянов
 Краткая преамбула
Краткая преамбула17 февраля в Институте динамического консерватизма прошел круглый стол об актуальности опричнины. Он дал неожиданные результаты. Как минимум, настоящим событием в нашей социально-исторической мысли явилась работа А.И.Фурсова, получившаяся на основе сделанного им доклада. Несомненно, глубокими и нетривиальными были также выступления Максима Калашникова, Александра Елисеева, Егора Холмогорова и других участников. Началась заинтересованная полемика как противников, так и сторонников «новой опричнины».
Что касается статьи Фурсова, то в ней впервые столь отчетливо была показана исключительная сложность опричнины XVI века, нестандартность ее как политической инициативы, целенаправленно преображающей властные и социальные отношения. Кроме того, Фурсов убедительно показал положительную сторону внутренней связи опричнины и нео-опричнины в русской истории, а также диалектику трех полюсов русского государства: олигархии, опричнины и самодержавия, – диалектику, рисующую лицо России как своеобразное, ни на что не похожее. (Замечу в скобках, что опричнина выступает как своего рода «странный аналог» демократизации власти, русское прочтение демократического принципа, не фантазийного, не манипуляторского, как современная «демократия», а реального рабочего принципа – «к народности через чрезвычайку».)
источник - http://www.dynacon.ru/content/articles/384/
- Нет комментариев

katehon
Мотивация достижения как двигатель экономики
модернизация россии, социология, В мире
Маринэ, как всегда, пишет очень обстоятельные, аргументированные статьи. Мне её всегда приятно почитать.

19.11.2009
Автор: Маринэ ВОСКАНЯН
Большая часть этих прогнозов говорит о серьезных изменениях макроэкономических параметров. И в качестве одного из таких параметров все чаще упоминается мотивация труда, хотя в «тучные 2000-е» мотивация чаще всего обсуждалась лишь в контексте эффективного управления персоналом отдельной компании. Сможет ли российская экономика быть конкурентоспособной в изменившемся посткризисном мире, будет зависеть и от отношения россиян к собственному труду. Ставка только на личные амбиции и личное обогащение вряд ли сможет стать двигателем серьезного экономического прорыва.
Вопрос «Почему и для чего люди работают?» долгие годы задавался, чтобы понять, какую зарплату и бонусную систему лучше использовать, как добиться от персонала большей лояльности и больших результатов. Тот же вопрос в контексте жизненных смыслов и общественных настроений интересовал разве что социологов. Казалось, времена, когда идеи превращались в трудовые подвиги и достижения, давно прошли. Успешный «офисный» менеджер и энтузиаст комсомольских строек — ну что между ними может быть общего? Ведь в России 2000-х на пике интереса к «капиталистической» мотивации труда общим местом стало понимание мотивации работника исключительно в эгоистическом ключе — что мы можем предложить лично ему в качестве компенсации (чаще всего исключительно денежной) за его труд.
Может ли мотивация — в понимании нематериальных причин, по которым люди работают, и, более широко, их жизненных стремлений — быть макроэкономическим параметром в рыночной экономике? Такая мысль не нова, и, более того, один из признанных авторитетов в области теорий корпоративной мотивации, Дэвид МакКлелланд еще в 1961 году в работе «Общество достижения» выдвинул гипотезу о том, что мотивация достижения служит важнейшим залогом экономического процветания. Оценив степень выраженности соответствующего мотива в обществе, можно с изрядной достоверностью предсказать тенденцию к экономическому развитию. Если на идеи МакКлелланда посмотреть из нынешней России, добавив к этому исторический опыт и некоторые, пусть и не академические, но в целом принимаемые нашим обществом представления об особенностях россиян как работников, выводы получаются интересные.ДОСТИГАТЬ ИЛИ БОГАТЕТЬ?
До того как замахнуться на исследования мотивов, приводивших к успеху или неуспеху целые страны и цивилизации, МакКлелланд изучал мотивацию отдельных людей в учебе или работе. По его мнению, важнейшей движущей силой является потребность достижения (успеха). Слово «успех» в России сегодня в каком-то смысле стало почти ругательным. «Успешный бизнесмен», «успешная компания», «успешный проект», «успешные» лица на обложках — слишком фальшиво, слишком официально, во всем этом россияне чувствуют подвох. И не зря — даже в бизнес-языке словом «успех» у нас давно называют нечто совсем другое (внешнее, показное), чем понимал американский теоретик мотивации. Согласно его идее, потребность в успехе не удовлетворяется провозглашением успеха человека — это лишь дает возможность повысить свой статус. Успех — это доведенная до успешного завершения работа, задача, решенная проблема. Это сделанное дело, значимое для человека. В итоге чего человек получил то, к чему стремился (и это вовсе не обязательно деньги или известность). Важно, что такое стремление становится «двигателем» для человека, если он верит, что обстоятельства дадут шанс его реализовать. С переходом на рыночные рельсы в России в качестве успеха предлагается видеть финансовые достижения индивида: сколько ты заработал, такой и успех. В качестве главного мотива труда выступает стремление разбогатеть. «Просто жить», «работать и зарабатывать», «обеспечить себе и семье достойную жизнь» — формулировки разные, а смысл один: работаю, чтоб получать деньги, желательно, побольше, чтоб обеспечить себе и семье комфорт и достаток. А что еще нужно? Многие уже и правда с искренним недоумением спросят: а что, мол, какой еще другой смысл есть для меня работать? Был бы миллион в кармане, сидел бы на пляже на далеких теплых островах и ничего бы не делал вообще. Как противоположная, оставшаяся в прошлом установка рассматривается советское «трудиться на благо страны».
А вот МакКлелланд считал, что и на капиталистическом Западе, и в СССР людьми двигало одно и то же — тот самый мотив достижения. Как это может быть? Ведь коммунисты с их стремлением к общественному благу всегда противопоставляли свои мотивы буржуазному стремлению к прибыли. МакКлелланд убежден, что западный капитализм двигало далеко не только стремление людей разбогатеть. «Само по себе желание быть богатым и приобретать материальные блага очень мало может поспособствовать экономическому развитию общества», — писал он. Действительно, даже в самом экономически отсталом государстве редкий человек откажется стать более состоятельным. Но далеко не везде распространен дух предпринимательства, традиционный для западного капитализма. А писавший о нем Макс Вебер отмечал, что протестантская этика породила тип предпринимателя-капиталиста, который тратит на свой личный комфорт куда меньше средств, нежели фанатично зарабатывает, потому что главный мотив его деятельности — «делать дело», а не «жить богаче». МакКлелланд, будучи психологом, призывал, рассматривая экономику, отказаться от принципов марксовского экономического дарвинизма, от мнения, что психология человека формируется исключительно под влиянием внешних экономических условий его труда. Такой же упрек он адресует и теориям Фрейда, и концепции истории Тойнби. Важнейшая мысль этих рассуждений — не только обстоятельства формируют людей. Напротив, если страна хочет добиться экономического роста, следует обращать самое пристальное внимание на ценности, мотивы и цели людей, потому что в долгосрочной перспективе они определяют экономическое развитие общества.
ОСМЫСЛЕННЫЙ ТРУД ВМЕСТО ТРУДОВОЙ ПОВИННОСТИ
Даже без всяких теорий достаточно очевидно: наиболее продуктивный труд — это труд осмысленный, понимаемый не как ненавистная повинность, а как поле самореализации. Наибольших успехов и прорывных достижений организация может добиться только при условии, что сотрудники прилагают свои силы не для галочки в надежде лишь получить очередную премию. Главный фактор — интерес к этой деятельности и стремление добиться успехов в деле, которое представляется для человека лично и общественно значимым. Достаточно заглянуть в наиболее известные работы из области бизнес-литературы, например, «От хорошего к великому» Джима Коллинза, — практически везде встречается мысль о том, что люди, формально выполняющие свои обязанности и на самом деле не увлеченные своей работой, не способны в долгосрочной перспективе генерировать серьезные достижения. Откройте любой современный учебник по управлению персоналом — уже стало общим местом утверждение, что серьезного профессионала нельзя мотивировать исключительно ростом зарплаты, ему нужны интересные задачи как возможность реализовать свой профессионализм, условия для обучения и роста компетенции. Более того, отсутствие у работников таких возможностей и заинтересованности в своем труде ведет к прямым убыткам — в работе Дэвида Болховера «Живые мертвецы» на массе практических примеров и статистических данных прекрасно показано, к какой ужасающей неэффективности это приводит и какие виртуозные способы «откосить» от ненавистной работы используют люди.
Вроде бы всем это известно и понятно. Однако россияне как работники, или пресловутые «трудящиеся» не выглядят очень счастливыми. Начиная с 90-х массовым явлением был отказ от выбранной специальности в пользу более денежной профессии. Кто-то перечеркивал десятилетия работы инженером-конструктором или химиком, чтобы с нуля и, что называется, на ходу, становиться предпринимателем-управленцем. Не потому, что всегда испытывал тайную страсть стать бизнесменом, а просто потому, что надо было кормить семью. И можно сделать предположение, что многие наши выстроившие бизнес граждане не потому добились успехов в предпринимательстве, что новые времена в них разбудили дух этого предпринимательства. А потому, что они в принципе по своему складу личности умели ставить цели и достигать их. Тот самый мотив достижения. Другая значительная часть — это те, кто отказался от своей мечты, даже не решившись ее осуществить. Те, кто в 90-е оканчивал школы и вузы. Сколько выпускников подавали документы на бесконечные экономическо-юридическо-торгово-международные специальности, отказываясь от интересующих с детства физики, биологии, истории, проектирования техники? И сколько мы в результате недополучили увлеченных своим делом специалистов, а значит, и шансов на новые идеи и технологии, получив взамен иллюзорный офисный средний класс? Нет, «молодые профессионалы», конечно, не рыдают в подушку о том, что романтика оставленного призвания теперь недостижима. Жизнь их сделала прагматиками, и они вполне осознанно идут на размен своего IQ на ипотечный кредит, шопинг и горные лыжи. К тому же у нас все в результате этой добровольно-насильственной «депризваниезации» оказались работниками-универсалами — с легкостью могут решать самые разные задачи, менять профессию. В сущности, умный, обучаемый и быстро приспосабливающийся к обстоятельствам человек — это у нас и есть главная профессия. Но, думается, многим понятно, что это просто наиболее безболезненный из компромиссов. Явно или нет, бессмысленность своего труда ощущают многие. Несмотря на любой «компенсационный пакет». В сущности, интернетовская «падонковская» культура, которая так по душе пришлась офисному планктону, — это осознанный или нет протест окружающему абсурду. Многочисленные корпоративные «маразмы» давно затмили пресловутое лицемерие государственных бюрократов. Распевать корпоративный гимн куда лицемернее, чем носить комсомольский значок, не веря в светлое будущее. Сейчас бюджеты на «тимбилдинг» урезаны, но еще несколько лет назад редкая компания не отправляла коллектив в лес или на пляж заниматься перетягиванием каната или бегом в мешках с обязательным братанием на фоне корпоративного стяга. При этом любой из этих сотрудников легко покинул бы дружный коллектив, получив хорошее предложение от конкурентов. Корпоративная культура в России пропитана ложью. И офисный планктон прекрасно это понимает. Но имеет хорошее оправдание — ведь надо кормить семью, ведь хочется жить по-человечески. В конце концов, разве есть еще какие-то варианты, кроме романтического ухода в энтузиасты-бессребреники?
Незаметно трудового энтузиазма и у работников «неофисных» специальностей. Российская почта, где, с одной стороны, женщины с потухшими глазами и мизерной зарплатой принимают переводы и выдают бандероли, а с другой — неработающие ксероксы, очереди и потерянные посылки. Нам который год обещают вместо этого «русский DHL», а воз и ныне там. Но, честно говоря, просто не верится, что новые управленческие методы заработают с персоналом, который чувствует себя как в трудовом лагере. Продавцы в торговых центрах, которые с фальшивой улыбкой пытаются «впарить» товар, вместо того чтобы дать грамотную консультацию, и всей душой ненавидят руководство и покупателей. И наоборот, порой все-таки остающиеся людьми вопреки строгим внушениям о том, что главное — продать побольше. Продавщица, шепотом предупреждающая о том, что «не берите — это несвежее» (а ведь объем продаж — это ее премия), — это островок человеческого там, где, как нас старательно убеждают, не должно быть ничего, кроме личной выгоды. Мрачные пограничницы, каменными лицами встречающие нас в аэропортах. Список можно продолжать долго. Иногда складывается впечатление, что у нас вся страна не любит свою работу. Но работает именно на ней.
САМОРЕАЛИЗАЦИЯ И «УМНОЖЕНИЕ НА НОЛЬ»
Утверждение, что большинство представителей среднего класса в России не видят смысла в своей работе, кажется на первый взгляд невероятным. Успешные 2000-е породили образ специалиста-профессионала, который не просто зарабатывает деньги, но при этом видит пользу от результатов своего труда, успешно самореализуется как в работе, так и в активном досуге. Но почему, несмотря на свои вполне нормальные зарплаты, комфортные офисы и не такую уж изматывающую работу за компьютером (позволяющую целыми днями быть в интернетонлайне в форумах и социальных сетях), те, кого Тоффлер и прочие футурологи середины XX века предполагали видеть в будущем как движимых творческими и научными интересами «интеллектуальных работников» и «информационный пролетариат», в современной реальности презрительно называют себя офисным планктоном и не очень-то гордятся своей жизнью? Те же самые люди, разбредаясь в Сети по своим виртуальным интересам, могут тратить массу времени совершенно бесплатно на поддержку какого-то интересного им интернет-ресурса, обсуждения интересных им тем в форумах, бескорыстную помощь (пусть хотя бы и только информационную). Просто во всех этих действиях люди видят очевидный смысл и пользу для самих себя и окружающих. В своей ежедневной работе «на дядю», за которую получают зарплату, такого смысла они не видят.
Не так просто дело обстоит и с самореализацией. У успешных работников есть вроде и она — можно гордиться тем, что эффективно руководишь людьми, решаешь сложные задачи, признан коллегами, доходы позволяют жить приятно и комфортно, в окружении престижных вещей. Главное, пореже думать, для чего нужно это эффективное руководство и решение задач. Можно крайне успешно, с интересом и профессионализмом заниматься продажей товаров, которые на самом деле никому не нужны, но хорошая реклама убедит, что нужны и еще как. Или создавать эту манипулятивную рекламу. Или строить уродливые торговые центры. Или придумывать рейтинговые скандальные ТВ-передачи. Но даже последний циник при этом прекрасно понимает, что, пусть и профессионально, и с высокой оплатой, он занимается, в сущности, генерацией бессмысленной пустоты. При этом в России существует усугубляющее эту ситуацию неверие, что возможны какие-то альтернативы. Демотивированность (и социальную апатию) вполне можно считать проблемой всего нашего общества и фактором, негативно влияющим на экономический рост, а вовсе не только проблемой отдельного человека. Максимум, во что верят россияне — это в свою семью, свои личные возможности как-то устроиться. В то, что будет побеждена коррупция — не верят, в возможность появления законов и условий для развития малого бизнеса — не верят, в призывы государства, будь они хоть трижды благие, — не верят. И здесь вновь полезно взглянуть на выводы теорий мотивации. Мотивационная теория ожиданий говорит о том, что важнейшую роль в том, насколько сильно человек стремится к какой-то цели, играет оценка индивидом реальности достижения поставленной цели. Если этот параметр становится «равным нулю», то есть человек просто не верит в то, что цели реально достигнуть (даже если все условия для этого есть), то в результате и получается умножение на ноль — полная демотивированность и нежелание что-либо делать. Надо признать, что государство у нас постаралось, — ему граждане не верят практически полностью: никакого внятного образа будущего нет, ожиданий успехов страны за рамками футбольных турниров тоже нет. Потому и соглашаются играть профессиональные роли, которые при других обстоятельствах никогда бы не выбрали.
Понятно, что вовсе не только эти факторы виноваты в том, что в России не стало массовым предпринимательство и малый бизнес, как предсказывали теоретики-либералы, что не произошло реальных прорывов в наукоемких отраслях, что госаппарат не может разродиться ни одной реально работающей госпрограммой. Но то, что человеческий капитал сегодня используется неэффективно, можно утверждать смело. ОБЩЕЕ ДЕЛО, КОТОРОГО НЕТ
ОБЩЕЕ ДЕЛО, КОТОРОГО НЕТ
Именно это видится проблемой макромасштаба. При современном экономическом устройстве наблюдается крайний дефицит осмысленной полезной деятельности. Есть профессии, в которых такой проблемы не существует: те, кто учит, лечит, спасает, изначально отчетливо видят свои цели. Остальные чаще всего просто за деньги делают то, что умеют, — лучше или хуже. Можно предположить, что именно дефицит реальных интересных задач и целей для деятельности часто приводит людей в экстремальный спорт, компьютерные игры, виртуальные проекты. Как ни странно, «настоящую жизнь» люди теперь ищут за пределами физической реальности или по крайней мере своего рабочего места.
Все это означает, что та самая «энергия достижения» либо не появляется вообще, поскольку для многих нет даже выбора, он задушен необходимостью удовлетворить для себя и семьи хотя бы базовые материальные потребности, либо «умножается на ноль» апатичных отрицательных ожиданий, либо уходит в «свисток» развлечений. Между тем у многих россиян, несомненно, помимо зарабатывания денег и обустройства комфортной жизни себе и близким, есть потребность реализовать себя в чем-то действительно нужном и важном для окружающих, а не просто за вознаграждение поучаствовать своим трудом в увеличении чьей-то прибыли.
Да, сегодня многие не чувствуют осмысленности в работе на своем конкретном рабочем месте. Гораздо хуже, что в России сложилась ситуация, когда граждане атомизированы и не видят ни своего вклада, ни вклада своей организации/ компании в дело общего развития страны и ее экономики. Сама постановка вопроса многим покажется смехотворной: какое общее дело, какое общее развитие? И что «эта страна» мне сделала такого, чтоб я еще думал о ее общем процветании? Здесь вопрос мотивации из области экономики и психологии уходит в совершенно другое поле — идеологическое. Потому что ни один гражданин сам не может видеть ни общего дела, ни общих целей, если их нет у самого государства. Сегодняшняя либеральная установка, напротив, предельно индивидуальна — «крутись, как хочешь, и богатей, если получится», в ней нет места ни коллективному, ни социальному. И никакое гражданское общество не заработает, пока от государства не прозвучит внятная установка, куда, зачем и как должна развиваться страна. А в условиях этой неопределенности все занимаются только понятным и простым — обустраивают личный быт и личное потребление, по сути, переставая быть гражданами и становясь просто отдельными субъектами, решающими вопросы своей частной жизни на общей географической территории. И пока нет единой государственной идеологии — не пустышек политического цирка, а внятной системы ценностей и смыслов, — отдельным призывам власти что-то сделать для страны сегодня никто не поверит.
Казалось бы, какая разница для экономического пейзажа, что думает и чувствует отдельная трудовая человеко-единица, если она вроде бы исправно выполняет должностные обязанности и платит налоги. Но если таких единиц десятки миллионов, как бы эта мелочь не стала решающей. Если завтра государство возьмется за рузвельтовского типа масштабные госпроекты, чем оно будет привлекать людей? Только зарплатой? А призывы «улучшать и повышать»? Мы все каждый день сталкиваемся с безобразно организованной работой госучреждений с населением, с нерациональными нововведениями в транспортной системе, с невозможностью получить нужные товары и услуги от коммерческих компаний. Поле для повышения эффективности работы организаций, как коммерческих, так и остальных, просто огромно. Но никто этих вопросов не решит, если работает «на дядю», думая только о пятничном вечере и дне получки. А вот ощущение осмысленности своего труда, отчетливое понимание его роли в построении общего экономического и социального благосостояния способно стать «двигателем» гораздо более осмысленной и плодотворной работы.
Мотивация, таким образом, может стать не только вопросом личного отношения каждого работника к труду, но и серьезным экономическим параметром, влияющим на всю экономику в целом. Но это возможно в экономике, где отчетливо понятен и продекларирован государством приоритет стратегических и функциональных задач над чисто финансовым интересом отдельных игроков, — сформулированы цели, которым служат действия экономических субъектов, концепция того, что является общественным благом, и то, как государство может учесть интересы всех своих граждан. Вопрос в том, будет ли такая экономика создана, или россияне по-прежнему будут довольствоваться ролью получающих зарплату винтиков в механизме, задачи и направление движения которого им в лучшем случае чужды и безразличны.источник - http://odnakoj.ru/magazine/yekonomika/lichnoe_plus_obshcee__lichnoe_plus_obshcee/
- Нет комментариев

katehon
А как хорошо начинал...
борьба за власть, модернизация россии
Забытый документ «Единой России»
В декабре 2002 года "Независимая газета" опубликовала проект Манифеста партии "Единая Россия". С тех пор прошло немало лет, и про этот эпохальный документ просто позабыли. А зря. В нем партия власти дает конкретные обещания - в отличие от "Плана Путина", о котором вообще ничего не было известно с самого начала. Но это они потом стали умные и перестали обещать конкретные вещи. А вот в прежние времена... Ну да читайте сами и удивляйтесь.
ЧИТАТЬ Манифест партии "Единая Россия" 2002 годаМанифест партии "Единая Россия" 2002 года
"Мы утверждаем, что XXI век будет веком России. Мы стоим на пороге беспрецедентного роста национальной экономики, какого еще не знала мировая история. Российское чудо будет достигнуто усилиями объединившихся вокруг партии "Единая Россия" граждан, на основе максимального использования уникального интеллектуального потенциала страны и открытий, сделанных российскими учеными за последние годы.
Через 15 лет, к 2017 году Россия будет ведущей мировой державой. Мы займем достойное России место в мировой экономике и политике, весь мир будет с восхищением наблюдать развитие проснувшегося российского медведя. В России будет развитая транспортная инфраструктура, доступная по цене любому гражданину и делающая легко достижимым любое место нашей необъятной Родины. Благодаря передовым технологиям в энергетике и новым источникам энергии Россия будет осваивать новые территории и ресурсы, приумножая ее богатства. Благодаря быстрому росту экономики рабочих мест будет больше, чем рабочих рук, спрос на рабочие руки будет превышать предложение, каждый сможет реализоваться в той сфере, в которой захочет. Каждый россиянин будет иметь доход, достойный гражданина великой страны. Благодаря бурному росту экономики будет возможным использование на практике всех достижений отечественной науки и потребуется мобилизация всего интеллектуального потенциала страны. Новый уровень развития технологии позволит обеспечить безопасность каждого гражданина и государства в целом. В свободной стране каждый сможет реализовать свои образовательные, культурные и духовные запросы в полной мере.
Наша конкретная программа такова. После победы на выборах в декабре 2003 г., сразу, в 2004 г. начнется:
- программа модернизации энергетического комплекса
- массовое строительство индивидуального жилья
- программа развития новой транспортной сети России
- технологическая революция в российском сельском хозяйстве
- быстрый рост доходов всех категорий граждан
В результате, уже
- В 2004 г. каждый житель России будет платить за тепло и электроэнергию в два раза меньше, чем сейчас
- В 2005 г. каждый гражданин России будет получать свою долю от использования природных богатств России
- В 2006 г. у каждого будет работа по профессии
- К 2008 г. каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье, достойное третьего тысячелетия, вне зависимости от уровня сегодняшнего дохода
- К 2008 г. Чечня и весь Северный Кавказ станет туристической и курортной "Меккой" России
- К 2010 г. будет построена транспортная магистраль Санкт-Петербург-Анадырь, Токио-Владивосток-Брест и другие
- К 2017 г. Россия будет лидером мировой политики и экономики
Скажете, что этого не может быть? Это будет! Мы - партия "Единая Россия" - сделаем это! Тысячу лет Россия была основным элементом мировой политики и экономики. Скажете, что в стране упадок и это никогда не повторится? У нас есть общественные силы, готовые поддержать возрождение России. Мы на пороге взрывного роста национальной экономики и мы сделаем этот шаг. Через 15 лет Россия будет лидером мировой экономики и политики. И весь мир на это посмотрит.
Российский медведь долго спал? Мы его разбудим. Все ждут Русского Чуда? Мы его создадим. Нужна национальная идея? Она у нас есть. В России есть природные ископаемые и территория, но этого недостаточно для взрывного развития страны и достойного благосостояния всех граждан? У нас есть главное богатство - интеллект. Мы знаем, как превратить его в массовый продукт, как воспользоваться новейшими научными открытиями, как соединить науку и жизнь. В России много выдающихся ученых, множество изобретений и открытий, но они не востребованы? У нас есть технология внедрения новейших открытий. Развитие только основных проектов в области энергетики, транспорта, связи, металлургии, медицины, строительства, жизнеобеспечения даст новые рабочие места, беспрецедентный в мировой практике взрывной рост экономики и благосостояния. Российская промышленность и сельское хозяйство в упадке, Россия не конкурентоспособна? Мы обладаем новыми технологиями производства, новыми товарами и новыми ресурсами. Мы готовы заполнить новые экономические ниши - как в России, так и за рубежом.
Россия - холодная страна и в России трудности с энергетикой? У нас есть новые источники энергии и передовые технологии ее получения. Мы готовы дать всей стране и всему миру много доступной и дешевой энергии. С новой энергетикой нам станут доступными неосвоенные территории и ресурсы. В России демографический кризис, стареет население и ухудшается здоровье людей? У нас есть новые технологии в медицине, мы сделаем их доступными каждому. Рост благосостояния, качества жизни и медобслуживания даст России новое здоровое поколение. Россия - огромная страна и есть трудности с транспортом и связью? У нас есть новые виды транспорта. Мы построим и разовьем новую транспортную инфраструктуру. У нас есть принципиально новые виды связи, невиданные по качеству и скорости. Мы создадим новую информационную среду России, свяжем каждого с каждым. В России трудности с жильем, разваливается жилищно-коммунальное хозяйство? У нас есть технология сверхбыстровозводимых зданий. Мы построим новые города с новой инфраструктурой, в которых каждый будет жить с удовольствием и в безопасности.
У нас в России есть множество новых проектов, изобретений и идей. Их - не менее 150 миллионов. Кто обладает хоть одной идеей - наш союзник. Каждая идея - это новый проект России. Каждый новый проект - кирпич в доме инновационной России. Каждый голос за "Единую Россию" - это инвестиция в будущее России. Единой России".
!!!За распространение этого материала увольняют с работы и проводят обыски. Но это должны знать все.
источник - http://www.zlev.ru/index.php?p=article&nomer=38&article=2211
- 35 комментариев

katehon
Политические романтики против реалистов
Борис Межуев, шеф-редактор “Русского журнала”, кандидат философских наук, МГУ:
стенограммаСпор между политическими романтиками и политическими реалистами возник весной прошлого года. Поначалу возник внутри одной корпорации Фонда эффективной политики и двумя ресурсами этой корпорации – сайтом liberty.ru и “Русским журналом”. За этим был некий раскол одного поколения, того поколения, которое моложе моего. Вот это была первая пристрелка борьбеы за будущее поколение – тем, кому сейчас 25, 26, 24 года. Это поколение делится на две части. Как правило, это все выпускники гуманитарных вузов. Одна часть этого поколения – люди, которые разочарованы в политике, в господствующих течениях этой политики. Они испытывают общественный интерес, хотят увидеть в ней какой-то определенный смысл, какой-то подтекст определенный, разыскать этот подтекст, обнаружить, попытаться как-то его понять. Многие из этих людей сейчас читают американскую философию. Америка выступает страной, где происходит интеллектуальное развитие, где постоянно существуют какие-то консерваторы, либералы, где нужно выбирать. Есть та политическая философия, есть эта. Каждый из них желает, проставляет какие-то оценки, рецепты, идеи действующей политической жизни. Вот это политические романтики. Эти люди говорят, что они не против, они не враждебные в этой системе, они не считают, что система плоха, они хотят ее понять, хотят найти в ней какой-то смысл, ценность. Это напоминает, как Белинский, Герцен в 30-е годы XIX в. хотели примириться с действительностью, выйти из ситуации одностороннего критицизма, увидеть в том времени, в котором они жили, в том государстве, в котором работали и подданными которого являлись, какой-то метафизический смысл. Вот это, примерно, соответствует политическому романтизму в принципе и политическому романтизму данного конкретного поколения в том числе.
Есть другие люди, которые называются политическими реалистами, которые говорят, что интеллектуалам нужно иммигрировать в бюрократию. Господствующий дискурс в нашем мире, не обязательно в России, то же самое в Европе, довольно бюрократический. Там невозможно найти какой-то высокий духовный смысл, пропроэкцию каких-то социальных, консервативных, либеральных ценностей. Как правило, во власти, рядом с ней, в экономике, в политике люди, размышляющие очень простым языком, – языком выгоды, языком интересов, языком аппаратных игр и так далее. Интеллектуал, если хочет что-то сделать в жизни и реально влиять на тот мир, в котором он живет, должен освоить этот язык, понять и, в конечном счете, слиться с бюрократией. Только слившись с ней, человек обретает возможность стать реальным субъектом в этой игре. В ответ романтики говорят, что ничего у вас не получится. Войдя в этот мир демократии, вы перестанете быть интеллектуалами, интеллигентами, вы перестанете мыслить языком не важно каких философов. Вы перестанете быть собой. Вы станете частью другого, иного класса, бюрократического класса, причем самые низшие роли спичрайтеров, авторов докладных записок. Реально ничего сделать не сможете. Чтобы на что-то влиять, чтобы сохранять свое влияние, вы должны оставаться интеллектуалами, вы должны прочерчивать границу между собой и бюрократией, между своим дискурсом и дискурсом бюрократии, между своим принципом и принципом демократии. Вы должны отстаивать эту границу, должны уметь объяснять, почему она нужна, и навязывать бюрократии свою логику, свои ценности, свое миропонимание, свою философию.
Вот две разных стратегии. Это два разных жизненных пути одного и того же поколения, один из которых настроен на слияние и вхождение, а другой – на сохранение своей автономии, но все-таки при желании как-то оказывать идеологическое, ценностное, культурное влияние на общественную жизнь. Пока мы не видим, что кто-то из них победил. Это спор, за которым стоят конкретные жизненные судьбы конкретных людей. Мне пока сложно сказать, какая из этих жизненных судеб оказалась более удачной, а какая более печальной, но ясно, что эта дискуссия – первый всполох будущего серьезнейшего конфликта и спора, который определит эволюцию интеллектуальной жизни в ближайшее десятилетие. Это главный будет спор новых десятых годов, в котором это поколение займет более основательно свои позиции.
источник - http://www.russia.ru/video/diskurs_10030/
- Нет комментариев

katehon
Русская философия – благо для России
02.04.2010
 Каждый народ имеет свою философию. У некоторых этносов она не излагается в написанных трактатах, а покоится в народной душе и проявляется в процессе их бытия и моральной экзистенции. Такая философия подобна невысказанной идее или непрочитанной ещё книге, но её установки остаются актуальными и востребованными для посвящённых. Другие этносы создали богатую и объёмную философскую литературу, которая представляет собой бесценное интеллектуальное наследие не одного поколения.
Каждый народ имеет свою философию. У некоторых этносов она не излагается в написанных трактатах, а покоится в народной душе и проявляется в процессе их бытия и моральной экзистенции. Такая философия подобна невысказанной идее или непрочитанной ещё книге, но её установки остаются актуальными и востребованными для посвящённых. Другие этносы создали богатую и объёмную философскую литературу, которая представляет собой бесценное интеллектуальное наследие не одного поколения.
Национальная философия не должна рассматриваться как набор отвлечённых мудрствований, свойственных буквоедам и наивным искателям истины. Платон считал, что государствами должны править философы, защищать его – воины, а создавать материальные богатства должны ремесленники. Под философами должно подразумевать не человека с дипломом об окончании философского факультета, а понимающего ткань жизни и внутренние законы человеческого бытия. Интеллектуальные занятия – удел меньшинства. Никогда философия не была модой для толпы. Но нынешнее поколение российских интеллектуалов остро нуждается в путеводной нити, которая бы обозначила основные контуры понимания Русской жизни, её основных вех, эволюции её внутреннего содержания и наполнения.Имя Айн Рэнд, урождённой Алисы Зиновьевны Розенбаум, американской писательницы и философа, известно не многим. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...Уроженка Санкт-Петербурга, в 1925 году она получила визу для поездки на учёбу в США. Её родители остались в Ленинграде и умерли во время блокады в годы Великой Отечественной войны. Сама Алиса, будущая Айн Рэнд, осталась в США, где развернула бурную философскую деятельность в защиту капитализма и права сильного, которое, по её мнению, должно оставаться незыблемым в экономике. Поэт и эссеист Алексей Цветков писал о ней, по-моему, совершенно справедливо: «С ее точки зрения коллективизм отрицателен абсолютно, а эгоизм, который она наряжает в платье англосаксонского индивидуализма – абсолютно положителен. Все «социальные добродетели» – безусловно, вредны, желание помочь ближнему – фактически порочно».
Её философия объективизма основана на принципах разума, индивидуализма, разумного эгоизма и является интеллектуальным обоснованием капиталистических ценностей. Айн Рэнд – столп либеральной философии. Изучением её философского наследия занимается специально основанный для этого Институт Айн Рэнд, который развернул бурную просветительскую деятельность в США. Америка, раз и навсегда верная капиталистическим принципам, сохраняет и приумножает научное наследие либеральных мыслителей и философов. Так, Институт Айн Рэнд реализует ряд программ для студентов, направленных на изучение трудов Айн Рэнд, исследования в области практического применения её экономических идей. На сайте Института говорится, что их задачей является распространение идей культурного возрождения для предотвращения антикапиталистических, антииндивидуалистических тенденций современности. «Лучшим полем битвы за наши идеи является сфера просвещения – институты и школы, где учащиеся и студенты знакомятся с идеями, которые влияют на всю их жизнь», - заявлено на сайте Института.
По опросам общественного мнения, проведённого в 1991 году Библиотекой Конгресса и книжным клубом «Book of the Month Club», «Атлант расправил плечи» - вторая после Библии книга, которая привела к переменам в жизни американских читателей. По состоянию на 2007 год суммарный тираж «Атланта» составил более 6,5 млн. экземпляров. По опросу Zogby International, проведённому в ноябре 2008 года, роман прочли 8,1 % взрослых американцев. Невозможно представить, чтобы в православной России второе место после Святого Писания занимала книга, воспевающая пресловутую гоббсианскую формулу «Человек человеку – волк». В книге «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд призывает богатых объединиться, чтобы сообща противостоять бедным. Богатый для Айн Рэнд значит – хороший и праведный. Бедный – злой грешник, наказанный Господом бедностью за свои прегрешения. Её призывы организовать «крестовый поход» капиталистов против бедных, т.е. «грешников», находили отклик в сердцах американской элиты! Айн Рэнд пользовалась уважением Р. Рейгана. Председатель Федеральной резервной службы США (1987 -2006) Алан Гринспен причислял себя к ученикам Айн Рэнд. Ее идеи созвучны идеям Хайека, сторонника хищного капитализма, сказавшего, что «рынок – это закон джунглей». В последние время интерес к идеям Айн Рэнд снова ожил, продажа ее книг заметно увеличилась, появились сразу две ее новые биографии. Этот интерес явно вызван готовящимися реформами в сфере медицинского обслуживания в Америке и вероятностью введения государственного сектора медицины. Тем не менее, идеологический фундамент англосаксонской цивилизации, основанный на либерал-фашизме, позволяет финансовым акулам держать бедные страны в узде финансового порабощения. Такая же участь ожидает и Россию, если мы позволим пичкать нашу молодёжь текстами и работами авторов либерального рынка, заменяя ими истинно русские культурные принципы и моральные установки.
Известно, что философ Джон Локк был акционером рабовладельческой кампании. Лорд Дизраэли отказывал «цветным» в праве называться людьми и оправдывал их угнетение белыми ради извлечения прибыли. Ведь бедный – значит, греховный и недостойный. Сравните эти установки с древнерусским состраданием нищим и юродивым, стоящим на паперти или странствующим по российским городам и весям!
Россия дала миру немало великих философов. Николай Бердяев и Питирим Сорокин (+еще тут смотри и тут), Иван Ильин и Георгий Флоровский, Николай Фёдоров и Владимир Соловьёв, Иван Аксаков и Лев Тихомиров, Константин Леонтьев и Николай Устрялов. Их произведения переведены на многие языки мира и известны в иностранной среде. Их вклад в освещение основ русской жизни, её генезиса, её основных смысловых и моральных «несущих конструкций» невозможно переоценить. Их вдумчивое созерцание основ Православной веры, основ русской духовности и русской социальной жизни принесло и ещё принесёт нам немало пользы.
В век, когда наш народ и наша страна так мучительно ищет спасения от бездуховности и чёрствости, от неразумной инфантильности и бессердечного эгоизма, от всеохватывающей коммерциализации и духовного обмеления, труды русских философов могли бы стать необходимым ориентиром на этом нелёгком пути. Для этого необходимо их всячески популяризировать, содействовать распространению их идей и их взглядов. Тогда на мыслеобразующий процесс русских людей будут оказывать влияние русские мыслители и идеологи Русского величия, а не завезённый с Запада либеральный яд, покрывший наши сердца густым налётом.
Необходимо, как минимум, создавать сайты, посвящённые жизни и интеллектуальной деятельности русских философов. Пока же Сеть наполнена сайтами наших политиков, многие из которых являются патриотами сомнительного качества. Об их интеллектуальном багаже я умолчу. Нужно создавать электронные библиотеки с трудами русских философов, издавать их книги миллионными тиражами, распространять их в учебных заведениях, проводить молодёжные философские лагеря, конференции и чтения. Американцы во время «холодной войны» пытались всучить каждому советскому гражданину, оказавшемуся по делам на территории США, томик Солженицына. Радио «Свобода» часами транслировало главы из его романов. В них Солженицын изображал Россию такой, как нужно было американцам. Наше радио используется пока преимущественно для коммерческих проектов, где нет места философии и патриотизму. Наши типографии печатают тоннами навязчивую рекламу на глянцевой бумаге, в то время как для издания томов А. Хомякова, А. Герцена или Н. Лосского и В.Н. Лосского никогда не хватает средств.
Крайне необходимо учреждать фонды и институты, названные их именами, для того, чтобы нести Русскую идею в русское общество, прежде всего, школьникам и студентам. Словно язвы, облепили Россию «либеральные гнойники» в лице СВОП, ИНСОР, Института Катона или ВШЭ–ГУ. Они стараются задать тон в информационной сфере, навязать ложное впечатление, что альтернативы либерализму нет, что русским пора отречься от «наивных сказок» Киреевского или Аксакова о славянской душе. Что душа у всех одна – жадная до чувственных удовольствий, падкая на дешёвые и грубые сенсации. Нашим ответом Институтам Катона и Айн Рэнд должны стать наши, русские институты. Пока что наиболее активен в этом направлении Фонд им. П. Сорокина при факультете социологии МГУ. Соцфак МГУ превращается в бастион традиционных русских ценностей, не поддающихся на разлагающий души капиталистический соблазн.
Таких фондов и центров должно быть в десятки раз больше, потому что на Россию с надеждой смотрят также и те, кто считает себя русским, но живёт вдали от неё. Русский духовный стержень, на котором веками держалась Земля Русская, изъеден либеральной ржой и покрыт либеральной плесенью. Русская мысль всегда противостояла западному шовинизму и связанной с ним социально-философской доктрине либерализма. Поэтому и является наша мысль для них сегодня целью №1. Пришла пора русским людям думать о России.источник - http://konservatizm.org/konservatizm/theory/020410154433.xhtml
- 7 комментариев

katehon
Борьба с «сырьевым проклятьем»
!!!Ахтунг!!!, просто о сложном, модернизация россии, экономический кризис, кризис, В мире
Очень дельная статья от начала и до конца
 Модернизация, индустриализация или просто очередная пертурбация?
Модернизация, индустриализация или просто очередная пертурбация?Сегодня крайне модно стало говорить и писать о модернизации, о том, что она назрела и какие она открывает перспективы перед российской экономикой. При этом обсуждается исключительно сценарий развития высокотехнологичного сектора как сферы производства продукции наиболее высокой степени передела. Однако недостаточно построить в чистом поле завод по производству микросхем или организовать финансовый центр на собственной территории. Любые изменения должны быть подкреплены реальным экономическим движением в данном направлении. А есть ли в России такие движущие факторы? Действительно ли назрела именно та модернизация, которую так хочется увидеть чиновникам?
Для начала постараемся ответить на извечный вопрос: что такое «сырьевое проклятье» и существует ли оно вообще? Ведь именно под знаменем борьбы с «сырьевым проклятьем» нашей экономики ведутся разговоры о решительной и мощной модернизации, развитии нанотехнологий, телекоммуникаций и т.д.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...Где деньги, Зин?
Итак, сегодня уже каждый школьник знает, что деньги в российскую экономику поступают по нескольким каналам, которые объединены одним: это продажа на экспорт углеводородного и иного сырья, добываемого из недр нашей Великой и Могучей Родины.
И тут, в принципе, спорить бессмысленно — так и есть. Вопрос в другом. Понятно, как зарабатывают нефтяные компании, «Газпром», металлурги, угольщики, транспортные компании, имеющие трубопроводы, железнодорожные вагоны и порты с баржами и сухогрузами. А как зарабатывает вся остальная экономика — сектор торговли, услуг, обрабатывающая промышленность, электроэнергетика?
Для ответа на этот вопрос необходимо понимать, что существует система перераспределения произведенных в экономике благ. В настоящее время для моделирования экономических процессов повсеместно используется СНС (система национальных счетов). Система национальных счетов — это балансовый метод комплексной взаимосвязанной характеристики экономических процессов и их результатов на основе системы макроэкономических показателей, объединенных в таблицы. Она описывает наиболее важные аспекты экономического развития (производство, распределение, перераспределение и использование конечного продукта и национального дохода, формирование национального богатства). Стандартная система национальных счетов была разработана статистической комиссией ООН в 1953 году. Национальные счета используются более чем в 150 странах мира, в том числе в России с 1988 года ВВП определяется по методике ООН. Таким образом, данный метод применяется и отечественными государственными макроэкономистами из Росстата и МЭР. При этом лежащая в основе данной системы модель не дает четкого понимания относительно экономической реальности сырьевой страны: она является инструментом унификации и сглаживания любых структурных различий в экономиках различных стран. В итоге получается довольно безликая однопродуктовая модель (рис. 1). Согласно данной методологии моделирования все продукты и услуги, произведенные в экономике страны, специальным образом агрегируются и приводятся к некоему единому эквиваленту, что позволяет сделать показатели всех отраслей более-менее сопоставимыми. На деле же происходит полное обезличивание всех качественных экономических процессов в угоду удобства расчета количественных показателей. А ведь для того чтобы вносить изменения в структуру экономики (назвать этот процесс можно как угодно: индустриализация, модернизация и т.д.), необходимо учитывать саму эту структуру.
Вообще на основе данной теории формируются межотраслевые балансы (МОБ) или таблицы «затраты-выпуск», которые отчасти могут компенсировать отсутствие информации о качественных взаимосвязях в экономике. Но в настоящее время в России практически не осталось людей, способных составить МОБ, а уж провести их грамотный анализ могут и вовсе единицы. В большинстве же случаев данная модель представляет для аналитиков и экономистов «черный ящик», в который необходимо загрузить определенные входные параметры и получить некий результат на выходе: индексы, показатели ВВП и прочее. В итоге теряется сама возможность четко определить суть происходящих в экономике процессов: анализ становится поверхностным и базируется только на количественных показателях. В классической теории макроэкономического анализа для устранения этого «брака» за последние 40—50 лет было придумано большое количество компенсирующих эти недостатки методов. В частности, многие экономисты пытались объяснить те или иные изменения за счет поиска корреляции между отдельными показателями. А вот полностью объяснить значение этих показателей уже не могли, поскольку отсутствовала (да и сейчас отсутствует) формализованная база для анализа сути экономических процессов и их качественных изменений.
А теперь позвольте спросить: как на основании данных такого поверхностного анализа можно принять решение о необходимости развития каких-то секторов экономики? Ведь при таком подходе даже невозможно выявить существующие потребности экономики, провести полноценный SWOT-анализ национальной экономики и т.д. А без этого, как известно, даже не стоит приступать к разработке стратегических планов ее развития.
Как уже отмечалось выше, отечественная экономика является сырьевой. Этот факт невозможно оспаривать: он очевиден. Но в этом отношении российская экономика не является уникальной — в мире есть примеры сырьевых государств: Австралия, Туркмения, Казахстан, Канада…
В различных выступлениях российских официальных лиц относительно трактовки нынешнего экономического кризиса и его последствий для отечественной экономики неизменно звучат тезисы о том, что наша экономика так сильно провалилась из-за привязки к ценам на нефть и другие товары сырьевого экспорта: внешние шоки, отток капитала и т.п. А теперь давайте посмотрим: все остальные из перечисленных сырьевых стран, экономики которых работают по тем же принципам (об этом чуть позже), что и наша, тоже попали в рецессию, но она не была столь внушительной. А ведь тот же Казахстан не является мировым индустриальным или высокотехнологичным лидером, не производит компьютеры и оргтехнику и уж тем более не экспортирует их. То есть получается, что никакого «сырьевого проклятья» не существует, а дело в чем-то другом?
Все не так однозначно, но сам факт наличия такого диссонанса заставляет задуматься: в чем реальные причины такой уязвимости российской экономики?
Модель просачивания: принципы и особенности
Для того чтобы проанализировать причины изменений в ходе того или иного экономического процесса, необходимо для начала постараться его описать, учтя, по возможности, ключевые факторы, формирующие его индивидуальность и особенности.
Мы в компании «Неокон» давно занимаемся разработкой модели мировой и национальных экономик для того, чтобы эти модели учитывали структурные различия экономик разных стран. Эмпирические наблюдения — это, конечно, хорошо, но не ими едиными живет экономика, и тем более не на них строится стратегическое управление экономическими процессами.
Так как же функционирует сырьевая, а следовательно, и российская экономика? Для описания процессов в такой экономике нами была разработана модель, названная «модель просачивания». Мы уже вкратце описывали эту модель на страницах журнала «Однако», но сейчас стоит раскрыть некоторые ее специфические особенности.
Итак, модель просачивания существует по следующим принципам:
1. Все отрасли в промышленности сырьевой страны априори разделены на два ключевых сектора: первый из них ориентирован на экспорт сырья за пределы страны и обеспечивает приток в экономику дополнительной ликвидности, второй ориентирован на внутренний рынок и обеспечивает мультипликацию привлеченных извне средств.
2. Ключевой проблемой для экономики просачивания является сбалансированность системы перераспределения ликвидности между секторами экономики: необходимо, чтобы структура экономики обеспечивала поступление полученных от экспорта средств по каналам просачивания (с помощью рыночных механизмов, фискальной и банковской системы) во все отрасли.
Сырьевая экономика не является однородной, а состоит из двух относительно независимо функционирующих секторов: экспортного и производящего продукцию для внутреннего рынка. Иногда в целях более детального анализа выделяется третий сектор — сектор естественных монополий с государственным регулированием цен. В докризисный период взаимодействие двух секторов осуществлялось по модели «просачивания» — постоянно растущий поток экспортных доходов распространялся на всю экономику.
Просачивание осуществлялось по нескольким каналам: инвестиции и доходы работников экспортных отраслей; инвестиции отраслей естественных монополий (и отчасти доходы их работников); расходы бюджетной системы; рост пассивов и, соответственно, активов банковской системы (рис. 2). При этом в России в 1999—2002 годах сектор, ориентированный на внутренний рынок, получил первоначальный импульс самостоятельного развития вследствие девальвации рубля. Девальвация позволила также резко повысить рублевые доходы экспортных отраслей и обусловила изначально высокие масштабы просачивания.
После того как выросли масштабы просачивания, в секторе, ориентированном на внутренний рынок, начали образовываться финансовые пузыри — в первую очередь за счет роста цен на залоговые активы и возможности привлечения под них все большего объема кредитных ресурсов (рис. 3), из которых необходимо отметить три: девелопмент, потребительское кредитование и ретейл. С появлением этих пузырей процесс развития получил еще один мощный источник подпитки — иностранные кредиты, и схема экономики просачивания обрела законченный вид (рис. 4).
Тут, возможно, стоит сделать небольшую оговорку: формирование финансовых пузырей не является для современной капиталистической модели чем-то экстраординарным — это и есть механизм экономического роста, поэтому их появление неизбежно. Бороться с этим бессмысленно, однако за счет обеспечения сбалансированности перераспределения ресурсов можно добиться относительной устойчивости экономики в целом, то есть снижения уровня ее зависимости от этих пузырей.
Кризис: крах модели просачивания Прекращение поступления иностранных кредитов весной — летом 2008 года привело к сжатию финансовых пузырей, а резкое падение цен на товары традиционного экспорта разрушило механизм функционирования модели просачивания. При этом начавшийся некоторое время спустя процесс восстановления экспортных цен не оказал заметного влияния на общее состояние экономики, поскольку традиционные каналы просачивания оказались неработоспособными.
Прекращение поступления иностранных кредитов весной — летом 2008 года привело к сжатию финансовых пузырей, а резкое падение цен на товары традиционного экспорта разрушило механизм функционирования модели просачивания. При этом начавшийся некоторое время спустя процесс восстановления экспортных цен не оказал заметного влияния на общее состояние экономики, поскольку традиционные каналы просачивания оказались неработоспособными.Сократилась инвестиционная активность экспортных отраслей и отраслей естественных монополий. Доходы работников в этих отраслях если и не сократились, то уж по крайней мере перестали расти докризисными темпами. Начавшие расти поступления от экспортных отраслей не смогли компенсировать падение доходов бюджета от сжатия сектора, производящего продукцию на внутренний рынок. За счет использования резервных фондов удалось сохранить расходы бюджетной системы на докризисном уровне, но и только.
Банковская система оказалась парализованной вследствие роста «плохих долгов», возникших в ходе сдувания финансовых пузырей. Связь между двумя секторами российской экономики оказалась разорванной. Антикризисные меры правительства не способствовали ее восстановлению. Впрочем, такой задачи и не ставилось: антикризисные меры не носили системного характера и были направлены на поддержание каждого из попавших в кризис секторов по отдельности.
«Ну и что? — скажет осведомленный читатель. — В других сырьевых странах происходили те же процессы, но они падали не так стремительно и глубоко, как мы». И тут мы возвращаемся к вопросу, который задали выше: что служит фактором сдерживания падения в других странах и почему он не работает в российской экономике? Попробуем ответить на этот вопрос.
Теперь становится очевидным, что единственный канал просачивания, который практически не может регулироваться прямым государственным вмешательством, — это свободный рынок. И в первую очередь это рынок труда и доходы населения в различных отраслях и секторах экономики. Так что ответ довольно прост: этот канал в российской экономике развит значительно хуже, чем в Канаде, Австралии и даже Казахстане.
В чем причина?
Тут стоит обратиться к истории формирования современной российской экономики.
Структурные дисбалансы В середине XX века в советской экономике была сформирована мощная индустриальная база, которая обеспечивала внутренний рынок всем необходимым: было развито собственное производство как конечной продукции, так и средств производства. Советская экономика была в высшей степени диверсифицирована и самодостаточна (мы сейчас не говорим о качестве производимой продукции и методах регулирования). Позднее система стала постепенно специализироваться на сырьевом секторе, приобретая современный нам вид. При этом фактическая смена модели развития происходила при попытке сохранения всех «непрофильных» отраслей. В итоге в экономике появился целый класс отраслей народного хозяйства, не отвечавший потребностям новой модели. Их существование привело к формированию серьезных структурных дисбалансов: «непрофильные» отрасли становились все более убыточными, а приток ликвидности в доходные сектора с последующим ее перераспределением в пользу убыточных с каждым годом становился все более недостаточным. По этому поводу уже много было написано и сказано, но суть все же одна: существовавшая система перераспределения не справлялась с задачей обеспечения сбалансированного развития экономики. Фактически с развалом СССР рухнула прежняя система межотраслевого перераспределения. Но сами дисбалансы сохранились и в ходе формирования в российской экономике модели просачивания. Стало понятно, что попытка «приставить к каждому рублю по милиционеру» — утопия, и для функционирования модели просачивания необходимо усиление роли свободного внутреннего рынка. Вот только как простимулировать развитие этого самого рынка в рамках предлагаемых унифицированных мировых инструментов, не очень понятно.
В середине XX века в советской экономике была сформирована мощная индустриальная база, которая обеспечивала внутренний рынок всем необходимым: было развито собственное производство как конечной продукции, так и средств производства. Советская экономика была в высшей степени диверсифицирована и самодостаточна (мы сейчас не говорим о качестве производимой продукции и методах регулирования). Позднее система стала постепенно специализироваться на сырьевом секторе, приобретая современный нам вид. При этом фактическая смена модели развития происходила при попытке сохранения всех «непрофильных» отраслей. В итоге в экономике появился целый класс отраслей народного хозяйства, не отвечавший потребностям новой модели. Их существование привело к формированию серьезных структурных дисбалансов: «непрофильные» отрасли становились все более убыточными, а приток ликвидности в доходные сектора с последующим ее перераспределением в пользу убыточных с каждым годом становился все более недостаточным. По этому поводу уже много было написано и сказано, но суть все же одна: существовавшая система перераспределения не справлялась с задачей обеспечения сбалансированного развития экономики. Фактически с развалом СССР рухнула прежняя система межотраслевого перераспределения. Но сами дисбалансы сохранились и в ходе формирования в российской экономике модели просачивания. Стало понятно, что попытка «приставить к каждому рублю по милиционеру» — утопия, и для функционирования модели просачивания необходимо усиление роли свободного внутреннего рынка. Вот только как простимулировать развитие этого самого рынка в рамках предлагаемых унифицированных мировых инструментов, не очень понятно.В начале текущего кризиса многие пытались сравнивать его с ситуацией 1998 года. При этом утверждалось, что даже в случае резкой девальвации рубля относительно ведущих мировых валют не удастся добиться эффекта, который наблюдался в 1999—2002 гг. В качестве объяснения приводилось рассуждение о том, что тогда в экономике еще сохранялось обширное «советское наследие» в промышленности, которое и заработало за счет искусственного повышения его конкурентоспособности, а сейчас его (этого наследия) практически не осталось: к началу нынешнего кризиса сохранились только те предприятия, которые так или иначе прошли процедуру модернизации. Однако за этим утверждением на самом деле кроется нечто большее: а по какому принципу у нас происходило выбытие предприятий и целых отраслей из экономического оборота? Все довольно просто: с появлением рыночных механизмов в перераспределении до многих отраслей просто перестала доходить ликвидность, необходимая для их функционирования. То есть постепенно стали исчезать наименее конкурентоспособные в условиях нынешней модели экономического роста предприятия. Иными словами, постепенно происходил процесс «очистки» экономики от «непрофильных активов». Но стала возникать другая проблема: в этих секторах экономики было занято огромное количество людей. Поэтому процесс рыночной адаптации экономической модели пришлось тормозить. И эту функцию стало выполнять государство с помощью бюджетной системы, поддерживая неэффективные предприятия. То есть государство всеми силами стало бороться с нормальным процессом экономической эволюции ради сохранения социальной стабильности. Но полностью остановить этот процесс даже государство не смогло, поэтому дисбалансы постепенно усиливались. До 2008 года за счет стремительного роста притока ликвидности удавалось маскировать эти дисбалансы. Однако снижение уровня поступлений выявило наличие этих дисбалансов. Обострились проблемы тех же моногородов (а вы думали, они на ровном месте появились?). Проще говоря, кризис продемонстрировал, что российская экономика не только не является однородной, но и внутренний сектор не соответствует потребностям экспортеров: он производит либо то, что экспортерам не нужно вовсе, либо производит в недостаточном количестве или недостаточно высокого качества продукцию, которую экспортеры могут потреблять.
Именно из-за этого в последние десять лет настолько сильно возрос импорт оборудования и товаров народного потребления. А кризис лишь продемонстрировал, что внутренний мультипликатор не работает или работает крайне неэффективно.
Что мы имеем на выходе? Структура российской экономики пока не соответствует даже сегодняшним реалиям. Так какой смысл браться за реализацию новых проектов, если даже текущие еще не завершены и нет четкого представления о том, что с ними делать? Итог таких начинаний понятен заранее: их экономическая эффективность будет постоянно стремиться к нулю.
Что же делать? Извечный российский вопрос: «Кто виноват и что делать?». С первой частью вроде разобрались. А что сделать, чтобы экономика заработала наконец?
Извечный российский вопрос: «Кто виноват и что делать?». С первой частью вроде разобрались. А что сделать, чтобы экономика заработала наконец?Нам довольно часто приходится отвечать на этот вопрос в процессе выработки стратегий развития для наших корпоративных клиентов, а также городов и территорий (к сожалению, в основном не российских — у нас в стране все слишком сильно поглощены решением текущих вопросов, и думать о завтрашнем дне считается непозволительной роскошью).
Так вот: для начала надо прекратить суетиться и принимать огромное количество бессмысленных решений, зачастую противоречащих друг другу.
Первый шаг на пути развития — это формирование внутренней инфраструктуры, способной создавать и усваивать новое в рамках намеченной стратегии. Но прежде необходимо сделать так называемый нулевой шаг: надо провести диагностику существующей системы принятия и исполнения решений, оценить адекватность текущей системы управления, учета, отчетности и контроля выбранной модели развития. Затем необходимо оценить сбалансированность этой системы на предмет обеспеченности всех ее уровней необходимым объемом ресурсов.
Главным ресурсом и двигателем развития экономики государства является распределение трудовых ресурсов в соответствии с потребностями основных отраслей. Для российской экономики профильными отраслями являются сырьевые отрасли. Но они в достаточно высокой степени обеспечены трудовыми ресурсами. Более того: большинство населения при опросах общественного мнения заявляет о том, что пределом мечтания для него является работа в сырьевых компаниях. Но сектор этот не резиновый и не может создать внутри себя достаточного количества рабочих мест. Да это и не нужно — необходимо проанализировать способность данного сектора экономики к генерации рабочих мест в других отраслях. Тут опять же ничего нового нет: необходимо оценить потенциал работоспособности мультипликатора Кейнса. То есть, условно говоря, сколько необходимо создать рабочих мест в отраслях, обслуживающих сырьевой сектор, чтобы за счет внутреннего производства максимально удовлетворить его потребность в ресурсах. Но для этого необходимо, чтобы уровень доходов в других отраслях был таким, чтобы он обеспечивал их конкурентоспособность с сырьевым сектором с точки зрения трудоустройства. А сделать это можно только за счет повышения роли рыночных факторов в процессе перераспределения.
Как повысить роль рыночных факторов, тоже понятно: необходимо, чтобы бюджетная система выполняла не только фискальные функции и механическое перераспределение ресурсов, а оказывала стимулирующее воздействие на развитие рыночных процессов. Пока что вся бюджетная политика направлена в прямо противоположную сторону — на расширение своей роли в перераспределении ликвидности в экономике. Отчасти этому способствует рост налоговой нагрузки на бизнес, прирост тарифов естественных монополий и т.д. При этом большая часть бюджетных доходов расходуется на поддержание неэффективных отраслей и целых регионов «на плаву», в то время как акцент должен быть смещен на то, чтобы создавать в первую очередь промышленные производства, способные удовлетворить спрос сырьевого сектора.
Многие могут сказать, что в таком случае неэффективные предприятия будут закрываться, а на улице окажется большое число безработных. Для начала надо честно признать: люди, работающие на этих предприятиях уже де-факто безработные, поскольку коэффициент полезности их труда для экономики близок к нулю. Опять же для предупреждения столь мощных социальных потрясений в стране должен существовать единый рынок труда, способный обеспечивать мобильность трудовых ресурсов и адекватное их распределение как по отраслевому, так и по территориальному признаку. Под реализацию общей концепции должна развиваться и система образования: единый рынок труда должен формировать потребность в кадрах, а система образования удовлетворять именно эту потребность. Фактически предприятия и организации должны иметь возможность формирования заказа определенных кадров, а система образования — выступать исполнителем этого заказа.
Нас могут обвинить в том, что мы ностальгируем по советской системе распределения выпускников учебных заведений. Но ведь этот инструмент позволяет обеспечить сбалансированность рынка труда. В противном случае мы так и будем иметь армию бесполезных юристов и экономистов, не создающих особой ценности своим трудом. Кстати, в том же Казахстане эта система работает и имеет вполне себе рыночный вид: в случае принятия очередной программы развития той или иной отрасли первое, что адаптируется под развитие, — это государственный заказ на подготовку профессиональных кадров, а затем рынок сам формирует дополнительный заказ. В итоге, декларируя те же принципы государственной политики, Казахстан добивается куда более впечатляющих результатов, чем Россия, где до сих пор не удалось реализовать ни одной из намеченных программ развития. А ведь не мешал никто: просто нет качественной социальной инфраструктуры. И это один из наиболее важных вопросов дальнейшего развития российской экономики.
Достижение адекватностиРезюмируя, можно сказать, что мы двумя руками голосуем за инициативы по реформированию именно структуры российской экономики, но в то же время выступаем за осознанный и взвешенный подход к решению данной задачи. Конечно, хочется, чтобы «мы были не хуже» других в мире, но все же необходимо трезво оценивать собственные возможности. Не доросла еще российская экономика до высоких технологий. Для начала надо научиться хотя бы нормально добывать нефть, газ и металлы, грамотно администрировать экономику. А вот когда этот результат будет достигнут, станет понятно, чего экономике еще не хватает: вполне возможно, что это будут собственные компьютеры и качественный софт. Только после того как экономика станет понятной, управляемой, прозрачной и более-менее сбалансированной, она сможет выступать механизмом обеспечения функционирования финансового центра (может, регионального, а может, и мирового).
В то же время методы реформирования должны тоже быть адекватными: они должны обеспечивать эволюционный процесс развития, а не революционный, поскольку последний в любом случае создает просто новые дисбалансы и повышает риски провала любых реформ. А обеспечить эволюцию на уровне государства сегодня можно только за счет развития социальных технологий, причем собственных, а не просто скопированных у других стран. Процесс этот, конечно, длительный и не сулит сиюминутных политических выгод и эффектных заявлений, но тут уж надо определиться, что важнее для государства.
Автор: Олег ГРИГОРЬЕВ, Михаил ХАЗИН, компания экспертного консультирования «Неокон»
источник - http://odnakoj.ru/magazine/yekonomika/borqba_ssxrqevxm_proklyatqem/
- Нет комментариев

katehon
Кредит доверия / Среда, 07.04.2010: Михаил Хазин
модернизация россии, что происходит?, экономический кризис, кризис, В мире
..
Т. ФЕЛЬГЕНГАУЭР: 16.35 в столице. Финальная часть дневного Разворота – кредит доверия у нас сейчас. У нас в студии Михаил Хазин, экономист, президент консалтинговой компании НЕОКОН. Здравствуйте, Михаил!
М. ХАЗИН: Добрый день!
Т. ФЕЛЬГЕНГАУЭР: Напомню, у нас есть смс +7 985 970 4545. Свои вопросы вы можете Михаилу Хазину присылать, мы их зададим обязательно. Давайте, может быть, пройдемся по заявлениям вчерашним главы государства?
В. ДЫМАРСКИЙ: Таня, перед заявлением у меня такой вопрос чисто сегодняшнего дня. Как вы прокомментируете довольно резкое очередное падение евро?
М. ХАЗИН: Ну, знаете, это, на самом деле, скучно и неинтересно. Сейчас очень много разных событий – некоторые из них объективны, некоторые смоделированы. Ровно специально для того, чтобы хоть какие-то были события макроэкономические. Я не специалист по рыночному курсу, поэтому , с моей точки зрения, это скучно и неинтересно.
В. ДЫМАРСКИЙ: То есть, это какая-то чисто рыночная…
М. ХАЗИН: Кто-то там играет, кому-то надо, кому-то чего там…
В. ДЫМАРСКИЙ: А в Греции стало хуже, поэтому евро падает…
М. ХАЗИН: Нет, не в Греции стало хуже, а кто-то в очередной раз сказал про Грецию. В Греции ничего не меняется последние полгода, но иногда новостей то густо, то пусто. Но это же… пиар…
В. ДЫМАРСКИЙ: Это чистая конъюнктура…
М. ХАЗИН: Это бизнес! Не надо путать. Конъюнктура готовится под бизнес. Кто-то решил, что сегодня пришла пора, соответственно, заработать на падении евро. Заработали. Через две недели надо заработать на росте…
В. ДЫМАРСКИЙ: То есть, чистая спекуляция.
М. ХАЗИН: Конечно, конечно! Но вот в понедельник, действительно, было интересное событие в этом смысле, потому что в пятницу в предпасхальный день рынки в США были закрыты, и Федеральная резервная система США намекнула, что они в понедельник устроят заочное заседание Комитета по открытым рынкам, на котором, может быть, поднимут дисконтную ставку. Вот это, действительно, было интересно, потому что… Давайте, я тут сделаю отступление на 5 минут, поскольку это все-таки интересно.
Т. ФЕЛЬГЕНГАУЭР: Давайте. Только я хочу вас, Михаил, предупредить, что у нас сейчас специальный режим работы – каждый 15 минут новости. Поэтому ориентируйтесь по часам в студии, в 16.45 нам надо будет точно прерваться на срочный выпуск новостей.
М. ХАЗИН: Я думаю, что я уложусь более коротко. В чем вся проблема современной экономической ситуации? Соединенным Штатам Америки нужно гасить довольно большие платежи по «казначейкам». Только в апреле больше 600 миллиардов долларов. При этом нужно бы, конечно, продать их побольше, чтобы закрыть дефицит бюджета. «Казначейки» - это дисконтные облигации, то есть, чем выше их цена, тем меньше доход. Значит, их желательно продать по высоким ценам. Но в мире «казначеек» куда больше – у Китая, у Японии, у Европы – как у частных лиц, так и у государств. Ну, в Китае, это, понятно, почти одно и то же. И эти «казначейки» тоже попадают на рынок, на вторичный. Никто не будет покупать «казначейки» на первичном рынке, у казначейства, если можно их купить дешевле на вторичном. Значит, Соединенные Штаты Америки, их денежные власти любой ценой должны поддерживать высокую цену на вторичном рынке «казначеек» и низкую доходность. Для этого банкам нужно давать дополнительную ликвидность. Эта дополнительная ликвидность куда-то попадает. Мы видим рост фондового рынка, мы видим рост нефтяных фьючерсов, и на самом деле довольно высокий рост цен на базовые товары, типа металл, цемент и так далее. В США за последний год рост цен на эти товары составил больше 30 процентов. Это сумасшедшие совершенно деньги, и это рост издержек, естественно, реального сектора. Понятно, потому что они вынуждены покупать товары по более высоким ценам. А увеличить и отпускные цены они не могут, потому что доходы граждан не растут. И тем самым они не могут увеличить свои покупки. А у вас неминуемо увеличивается количество банкротств, ухудшаются финансовые показатели.
В. ДЫМАРСКИЙ: То есть, этот рост цен не вызван просто спросом на эти товары?
М. ХАЗИН: Нет. Этот рост цен вообще к спросу не имеет отношения. Он вызван избытком ликвидности на рынке, который появляется из-за необходимости поддерживать рынок «казначеек».
В. ДЫМАРСКИЙ: Нам это объясняет, что рост спроса – соответственно, рост цен, а это все вместе свидетельствует о том, что мы выходим из рецессии и выходим из кризиса.
М. ХАЗИН: Нет, совокупного роста спроса в Соединенных Штатах Америки нет. У них последние 3-4 месяца перестал спрос падать, но происходит это не из-за того, что растут доходы, а из-за того, что снова стали падать сбережения. А в США сегодня есть два фактора падения спроса – это уменьшение реально располагаемых доходов и увеличение сбережений. Вот сбережения, которые были где-то минус 5 процентов на начало кризиса где-то в 2007 году, выросли где-то до 6-7 процентов к середине 2009 года. А потом снова стали падать, потому что была очень массовая пропаганда окончания кризиса. И за счет вот этого снижения сбережений перестал падать спрос. Но спрос не растет! И по этой причине увеличивать цены продажные предприятия не могут. А цены издержки у них растут. И в этой ситуации единственный способ каким-то образом это компенсировать – это уменьшить ликвидность на рынке. Поэтому повышение ставки – это вещь неизбежная. Но вот видите, они вроде в пятницу совсем было решились, а потом в понедельник выяснилось, что ничего не произошло. И вот это очень существенный фактор. Это означает, что они понимают, что сегодня ужесточать денежную политику нельзя, потому что это может вызвать обрушение дифляционное по образцу осени 2008 года. Ну, вот – казнить нельзя помиловать! Куда не ткнешься – всюду плохо. И на этом фоне есть целая куча мелких факторов. А сегодня, давайте, мы скажем про Испанию. Сегодня в Британии объявили выборы. Давайте, поговорим о финансовом положении Великобритании! Вы думаете, там сильно лучше, чем в Греции?
Т. ФЕЛЬГЕНГАУЭР: Все-таки после Греции следующей называют не Великобританию, согласитесь.
М. ХАЗИН: Да какая разница! С точки зрения финансового положения у Британии, может быть, даже и похуже, чем у Испании и у Португалии. У нее немножко лучше структура долга…
В. ДЫМАРСКИЙ: У нее внутренний долг очень большой.
М. ХАЗИН: Он очень большой, но он чуть-чуть отнесен. То есть, у нее больше среднесрочных, чем краткосрочных…
В. ДЫМАРСКИЙ: Великобритания не в системе евро.
М. ХАЗИН: А вот это совершенно все равно, да. Они могут начать печатать фунты , и у них начнется инфляция! То есть, тут из двух зол каждый выбирает себе то, что хочет.
В. ДЫМАРСКИЙ: Хазин все время предрекал крах доллара, а системно падает евро.
М. ХАЗИН: Ничего подобного! Крах доллара я не предрекал, я говорил о том, что доллар будет падать в начале 2000-х – он и упал в два раза. А вообще я говорил о системе. Книжка моя 2003 года называется «Закат империи доллара». Пока существуют Соединенные Штаты Америки, доллар, как бы он там не назывался, существовать будет! Можно, конечно, пообсуждать варианты распада США – это очень увлекательное занятие…
Т. ФЕЛЬГЕНГАУЭР: Для многих, наверняка, еще и очень приятное.
М. ХАЗИН: Но я думаю, что пока это несколько преждевременно!
Т. ФЕЛЬГЕНГАУЭР: Так я попробую все-таки вас вернуть к заявлениям Дмитрия Медведева, потому что у нас все-таки российская радиостанция. Давайте, немножко про наши…
В. ДЫМАРСКИЙ: Ну, все долларом и евро интересуются, тем не менее.
Т. ФЕЛЬГЕНГАУЭР: … к нашим баранам вернемся. Президент Дмитрий Медведев назвал…
В. ДЫМАРСКИЙ: Кого она назвала баранами, я не понял?
Т. ФЕЛЬГЕНГАУЭР: Уж точно не президента! И уж точно никого из присутствующих. Президент Дмитрий Медведев назвал ключевой задачей создания посткризисной модели экономики – выход на бездефицитный бюджет. Вообще, насколько реально нам на бездефицитный бюджет-то выйти?
М. ХАЗИН: Вот у нас тут Кудрин выступал пару дней тому назад..
В. ДЫМАРСКИЙ: И сказал, что в течение десятилетий…
М. ХАЗИН: В течение десятилетий будет плохо. И он там также намекал, что если все будет так же, как сейчас, то увеличивать налоги не придется. Я уже знаю как бы, что означают такие слова в устах Кудрина. Это означает, что если ситуация изменится, то налоги увеличивать придется. А на самом деле, то, что ситуация изменится , уже всем понятно. Тут произошла смена, как известно, руководителя налоговой службы – ушел человек не кудринский, пришел человек кудринский. На самом деле, как мы знаем, в начале года поступления в бюджет резко упали. Вот это объективная ситуация. Здесь же, в этой студии в конце 2008 года я говорил о том, что надо девальвировать рубль, а иначе будут проблемы. Тогда и Кудрин, и Игнатьев говорили, что нет, рубль надо усиливать. Усилили. В результате резко упали поступления в бюджет. В конце 2009 года Кудрин признал, что он ошибался. А на сегодня ситуация продолжается – рубль очень сильный по сравнению с той экономикой, которую мы на сегодня имеем. Это будут очень большие проблемы! А с поступлением в бюджет, собственно, по плану мы не добираем налогов. Правда, надо учесть, что у нас совершенно сумасшедшая теневая экономика. С другой стороны, если мы начнем сейчас злобствовать, то может оказаться, что мы попадем в ситуацию Киргизии.
Т. ФЕЛЬГЕНГАУЭР: Вот! Неожиданно сейчас Михаил Хазин подвел нас к срочному выпуску новостей.
НОВОСТИ
Т. ФЕЛЬГЕНГАУЭР: Дневной Разворот продолжается. Татьяна Фельгенгауэр, Виталий Дымарский…
В. ДЫМАРСКИЙ: И Михаил Хазин у нас в гостях. Михаил, я бы сразу вам хотел задать вопрос. Вот вы говорили о том, что… когда-то вы советовали, рекомендовали девальвировать рубль - в конце 2008 года. Но вот Центробанк идет по пути укрепления. Это информация сегодняшнего дня, что Центробанк в марте увеличил свои интервенции на покупку долларов в 2,2 раза, евро в полтора раза именно для сдерживания укрепления рубля. Значит, они не следуют этим советам? Они боятся все-таки сильного рубля?
М. ХАЗИН: Знаете, на них все- таки «наехали» довольно сильно. Тут даже правительство собиралось разработать комплекс мер по недопущению укрепления рубля. Но как бы поздно махать кулаками после драки. Если бы мы это сделали в конце 2008 года, мы бы уже в 2009-м, скорее всего, получили бы экономический рост. Пускай слабый, пуская неустойчивый, но хоть какой. Любые реформы проводить на фоне роста куда приятней! Куда хуже их проводить на фоне спада.
В. ДЫМАРСКИЙ: У нас на фоне роста никто ничего никогда не проводит, к сожалению.
М. ХАЗИН: Это , конечно, так, но дело в том, что на самом деле той ситуации, в которой мы находимся… Все бы понимали, что этот рост крайне неустойчивый и на короткий срок. Надо было просто воспользоваться ситуацией. А так иначе мы сейчас получим крайне неприятную картину. Вот, собственно, существуют две основные теории – из-за чего произошли неприятности в Киргизии. Первая теория – это геополитическая и конспирологическая. Буквально несколько дней тому назад прошла информация, что Соединенные Штаты Америки договорились с руководством Киргизии о создании новой военной базы в Ферганской долине. Но как понятно, ни России, ни Ирану, ни Китаю устраивать центр дестабилизации посреди Средней Азии, да еще в такой точке как Ферганская долина, не нужно. И как бы мнения России и Ирана, может быть, никто бы и не спросил, но мнение Китае не спросить нельзя. Это одна версия. А версия другаЯ – что все это началось с массовых протестов против повышения жилищно-коммунальных тарифов. Совершенно верно! А не повышать тарифы нынешнее правительство не может. Ну, в общем, надо с этим что-то делать… При этом возникает целая куча проблем, потому что по нашему пока еще гуманному законодательству – я думаю, что это безобразие отменится скоро, но пока это действует – жилищно-коммунальные тарифы не должны превышать 22 процента от доходов семьи. В некоторых регионах эта цифра даже меньше. И в этом случае, как только у вас повышаются коммунальные тарифы, граждане что делают? Бегут за субсидией! Соответственно, бюджеты городские, муниципальные, у которых этих денег, естественно, сроду не было никогда, обращаются за соответствующими деньгами в региональный бюджет. У региональных бюджетов тоже нет этих денег, и они бегут в федеральный бюджет и говорят: дайте денег. В ответ на это Минфин говорит: ребята, вы чего? У нас бюджет принят еще там, давно, и там уже установлены цифры этих субсидий. Мы же вас просили: дайте нам прогноз! А вы нам его не даете. На что ему говорят: а что теперь делать? Возникают острые конфликты между министерством регионального развития, которое, собственное, всю информацию собирает и дает в Минфин данные, и Минфином. Потому что, с одной стороны, Минфин давать денег не хочет, что и понятно. А министерство регионального развития говорит: ну, тогда я ни за что не отвечаю, в том числе, за положение дел в регионах. Ну, и начинается шум и гам. Плюс к этому еще вылезает администрация президента, потому что, как известно, за социально-политическое состояние регионов у нас отвечает администрация президента в лице, так сказать, светоча современной российской суверенной демократии товарища Суркова. А рычагов влияния на эту социально-политическую ситуацию в виде бюджетных потоков товарищ Сурков не имеет никаких! Единственное, что он может докладывать своему начальству о том, что типа «слишком сильно повышают тарифы». После чего президент вызывает соответствующего вице-премьера и говорит, типа, нехорошо.
В. ДЫМАРСКИЙ: Я думаю, что еще был третий фактор, постоянный такой. Это достала всех, говоря простым языком, коррупция в верхних эшелонах власти.
Т. ФЕЛЬГЕНГАУЭР: А у нас нет коррупции, можно подумать!
М. ХАЗИН: Другое дело, что там она немножко другая! Она там сильно больно естественна.
В. ДЫМАРСКИЙ: Она более явная.
М. ХАЗИН: По поводу размеров не знаю. Насчет явной. Люди, которые занимаются малым и средним бизнесом, ругаются.
В. ДЫМАРСКИЙ: На кого?
М. ХАЗИН: На коррупцию. И говорят, что это очень важный фактор, увеличивающий издержки.
В. ДЫМАРСКИЙ: У нас? Вот новость!
Т. ФЕЛЬГЕНГАУЭР: Знаете, еще в «Даймлере» тоже на коррупцию очень сильно ругаются.
М. ХАЗИН: Где ругаются?
В. ДЫМАРСКИЙ: В «Даймлере»!
М. ХАЗИН: В «Даймлере» тут немножко другая ситуация. Поскольку все про эту коррупцию знали много десятилетий, но она как-то всплыла только в тот момент, когда выяснилось, что надо бороться… как бы «Даймлер» слишком активно работает на рынке Соединенных Штатов Америки. Ну, в общем, сейчас уже все понятно! Понимаете, когда пирог раздела растет, то все проблемы можно откладывать на потом. Потому что всегда можно сказать: ну, вот тут у нас образовался лишний кусочек, мы его сейчас поделим. Фон роста или фон спада. А когда он падает…
В. ДЫМАРСКИЙ: А вот у Тани было какое-то сообщение… Что мы там собираемся? Какую модель новой экономики создавать? Кто-то у нас что-то сказал…
М. ХАЗИН: Президент сказал.
Т. ФЕЛЬГЕНГАУЭР: «…задача - это создание посткризисной модели экономики».
В. ДЫМАРСКИЙ: Про эту модель у нас начали говорить с самого начала кризиса. Что вот сейчас кризис, это лучшее время для реструктуризации… и так далее.
М. ХАЗИН: Видите ли, в чем дело. Я занимаюсь попытками понять, как будет устроена посткризисная модель, уже лет 8. Первый 5 лет все говорили, что мы…я же не один этим занимаюсь… - сумасшедшие. Там дальше много было эпитетов. Теперь, соответственно, люди, которые 5 лет нам объясняли, что мы ничего не понимаем, стали говорить о том, что надо бы этим заниматься. При этом они, разумеется, не спрашивают, чем мы занимаемся, еще чего-то. Они просто говорят, делают на этом свой маленький бизнес. Они уже эту свою мысль донесли до президента. Замечательно! Президент сказал очень полезную, важную фразу. Например, президент Назарбаев на эту тему в Казахстане уже говорил 2-3 года назад. Замечательно! Вся проблема состоит вот в чем. Для того, чтобы думать на какую-то тему – я не говорю «строить» - думать просто, а чего строить? – нужно это обсуждать, разговаривать с людьми, которые в этом хотя бы немножко разбираются. Понимаете, когда вы поручаете олигарху руководить некоторой структурой…
В. ДЫМАРСКИЙ: Сколково.
М. ХАЗИН: Это вы сказали! Я этого не говорил. …то у вас ничего, кроме, соответственно…. Мы все видели приватизацию, да? Вот что такое была приватизация? Есть работающий завод, туда приходит новый человек, еще не олигарх, все станки продает на металлолом, на эти деньги переоборудует цеха в офисы, начинает их сдавать.
Т. ФЕЛЬГЕНГАУЭР: Никаких других проявлений приватизации не было?
М. ХАЗИН: Я не знаю. Успешных приватизационных проектов я не знаю. Также не знаю ни одного случая, чтобы приватизация прошла законно. Ну, в общем, еще раз повторяю – если вы хотите делать какое-то дело, его желательно делать с людьми, которые в состоянии в нем разобраться, и что-то реальное.
Т. ФЕЛЬГЕНГАУЭР: Мудрая мысль под конец выступления Михаила Хазина завершает дневной Разворот. Спасибо вам большое, Михаил , за то, что вы к нам пришли, все нам объяснили. Может быть, какие-нибудь люди нас послушали, важные, все поняли, записали. Дневной Разворот, который для вас сегодня провели Татьяна Фельгенгауэр и Виталий Дымарский, заканчивается.
В. ДЫМАРСКИЙ: Спасибо за внимание! Спасибо Михаилу Хазину! До следующей встречи!
М. ХАЗИН: До свидания!
источник - http://www.echo.msk.ru/programs/creditworthiness/669998-echo/- 2 комментария

katehon
Хватился поп за яйца - 90% бизнеса в России сворачивается
модернизация — морденизация
Депутат Владимир Груздев утверждает, что кризис изменил отношения, которые до этого существовали в мире бизнеса. Поэтому он видит задачи партии «Единая Россия» и в частности, либерального клуба в том, чтобы поддерживать не только тех, кто не может помочь себе самостоятельно, но и трудоспособное население.
- Нет комментариев

katehon
Русский фашизм – миф или реальность?
Статья старая (1994 год), но неустаревшая
Не входить в мировое цивилизованное
Речь о русском фашизме
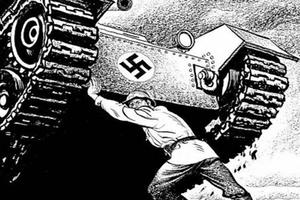
От редакции. В годовщину кончины выдающегося русского мыслителя Вадима Леонидовича Цымбурского мы представляем вниманию читателя одно из его наиболее значительных с теоретической точки зрения публичных выступлений. Оно было озвучено 24 января 1994 года на заседании московского клуба «Свободное слово», посвященного теме «Русский фашизм – миф или реальность?». Члены клуба, включая цитируемых в выступлении Цымбурского философов В.М. Межуева и К.М. Кантора, обсуждали, по следам неожиданного успеха партии Владимира Жириновского на выборах в Государственную думу в декабре 1993 года, насколько вероятен политический успех «русского фашизма» и в какой мере ответственность за возникновение этого феномена несет либерализм в его искривленной отечественной версии.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...* * *
Начну с того, что моему выступлению предстоит быть своего рода дополнением и комментарием к выступлению В.М. Межуева. Прежде всего, я хочу полностью поддержать то, что говорилось Вадимом Михайловичем о необходимости различать понятия «фашизма» и «нацизма».
Нужно видеть в фашизме то, что не покрывается ранжированием людей по национальному и расовому признакам - ранжированием, которое исторически проявлялось в разных обстоятельствах, разных культурах, разных обществах. Уже достаточно и в прессе и здесь говорилось о Прибалтике и об ее обращении с «русскоязычными». По существу Прибалтика, как о том писал в свое время один журналист в «Огоньке», тяготеет к типу нацистского общества, и однако мы не можем назвать сегодняшние прибалтийские общества «фашистскими».
Если мы присмотримся к двум эталонным фашистским обществам, какие нам являют, при всем различии между собой, Германия и Италия во второй четверти нашего века, и попытаемся определить их общие черты, стремясь охарактеризовать феномен фашизма, то, на мой взгляд, он должен быть охарактеризован следующим способом. Прежде всего, фашизм есть форма восстания нации против попыток вписать нацию в непрестижный и дискомфортный для нее мировой порядок на правах нации «второго сорта». Это, как мне кажется, исходное, родовое определение фашизма.
Но такого рода определения мало, ибо надо задуматься над тем, в чем именно состоит это «восстание нации». Вспомним здесь то, что некогда Джилас писал о большевистской революции и о неразрывной с ней экспроприации иностранных капиталов и кассации иностранных долгов России. В конце концов, Джилас рассматривал нашу революцию также как форму национального восстания против миропорядка, не устраивающего нацию. Однако фашистское восстание имеет свои отличающие его черты.
Во-первых, такой чертой является четкое противопоставление мировым нормам, правилам игры, определившимся в капиталистической мир-системе, ценностей данного народа, нации. Фашизм - восстание ценностей против норм. Отсюда вытекает все, что говорилось Карлом Моисеевичем насчет язычества, ставки на «кровь и почву», по сути - на исконные культурные начала данной нации, как бы возносимые в противовес диктуемым ей извне нормативам и правилам. Такой поворот неизбежен уже потому, что в своем бунте впавшая в фашизм нация стремится опереться на те начала, где она менее всего зависит от миропорядка, - на то, что создано и непосредственно выпестовано ею и где она не так явственно соединена с «чужим» миром, как в циркуляции стоимостей и в балансе сил. Бунт ставит на культуру, на ее первоосновы, где антропология погружается в биологию, - и в этой бездне черпает прообразы восстания политического.
Во-вторых, помимо ставки на эти «кровные» и «почвенные» основы, типологической чертой фашизма является использование тоталитарной техники власти, а именно приобщения всех граждан общества к всеобщности единой воли через посредство партии= авангарда, снимающей противопоставление общества и государства, партией, которая становится над формальными структурами государства как собрание «лучших сил народа». Партия-авангард с ее дробным, слабо формализованным переходом от партии «внешней» к «внутренней» притязает на снятие разрыва между элитой и массами, превращая каждый человеческий атом общества в «единой силы частицу».
Третий признак фашизма состоит в том, что в своем восстании фашизированная нация стремится внутри себя снять классовые противоположности и противоречия, нейтрализовать конфликт богатых и бедных, экономических «верхов» и «низов» нации. Поэтому, как правило, при фашизме не происходит экспроприации, физического истребления заправил экономики, но «хозяев жизни» склоняют консолидироваться с низами своей нации на основе морального единства, на основе именно тех своих, и только своих, исконных первоначал, во имя которых «нация-пролетарка» поднимает бунт против не устраивавшего ее мира.
Посмотрим еще раз на этот теоретический эталон фашизма:
- ставка на свои неотъемлемые, не экспроприруемые миропорядком истоки; на «кровь и почву» - раз;
- тоталитарная техника власти, связывающая массы в «единую силу» - два;
- стремление на этой основе снять внутренние классовые противоречия - три.
Попытаемся теперь инвертировать данный эталон и построить другой, который зеркально противостоял бы эталону фашистскому. Мы получим при этом эталон компрадорского государства.
Я обращаю ваше внимание на то, как абсурдно, оксюмороном звучит словосочетание «компрадорский фашизм», предполагая некий лицемерный выгиб мысли, соединяющий члены антитезы. Ибо компрадорство - прямая альтернатива фашизму для общества, закатившегося в дискомфортную лунку мир-системы.
Пункт против пункта.
Вместо ставки на кровь и почву - полное привязывание государства к внешним мировым структурам, черпание режимом ресурсов выживания из внешней поддержки и внешнего признания.
Вместо тоталитарной техники власти - техника власти авторитарная, когда атомы не связываются ни в какую всеобщность, но им предоставляется порознь вертеться в атомарном их состоянии, лишь бы не вмешивались в дела власти, не препятствовали ей по своему усмотрению определять условия этого «верчения».
Наконец, вместо морально-политической нейтрализации противоречий - их предельная поляризация, общеизвестная игра на противопоставлении образа жизни одной десятой приобщившихся к мировому цивилизованному и девяти десятых не приобщившихся, оставшихся «при своих».
Причем авторитарная техника власти предназначена удержать общество в этом напряженном неравновесии, до бесконечности отсрочивая взрыв.
По правде, для государства, втягивающегося в миропорядок на неблагоприятных для него условиях, есть два пути: либо смиряться с положением вещей, когда в обществе выделяется верхушка, приобщенная к мировым стандартам, пользоваться авторитарной техникой власти для обуздания девяти десятых и гордиться тем, что играешь по правилам «мирового цивилизованного», - либо идти на бунт, который с высокой вероятностью придаст обществу фашистские черты.
Выбор страшный.
Во второй четверти века либеральная Европа и весь Запад были напуганы тем, что в их собственном, романо-германском ареале обозначилась такая «периферия», такой тип бунтующих наций. А потому после мировой войны были приняты все меры к тому, чтобы в Европе - а заодно и в Японии как ближайшей к США части «мирового приморья» - эти очаги погасить и абсорбировать подобные нации - внутри либерального «центра». Это было сделано.
Россию никто в таком качестве и на таких льготных условиях абсорбировать не будет, да и не смог бы. Потому надо признать, что при желании любой ценой закрепиться на окраине «мирового цивилизованного», перед Россией встанет выбор между двумя путями: путем компрадорским и путем фашистским.
Если мы поглядим, что пишут демократические эксперты вроде Миграняна, восславляя авторитаризм как форму перехода в лучшее состояние; что пишут люди, подобные моему старому соавтору Драгунскому, превозносящему общество, где армия, влившись в «цивилизованную» одну десятую, возьмется ее защищать от девяти десятых, оставшихся «при своих», - мы увидим отчетливо: выбор между этими путями стал определенным и близким.
И то, что Вадим Михайлович говорил насчет близнечности типов Гайдара и Жириновского, - это близнечность альтернативных путей, выбираемых внутри обозначенной ситуации, близнечность удовлетворенности ею и бунта против нее.
Сколько раз за последние годы в демократической прессе в оправдание сегодняшних боссов цитировалась строчка Бродского насчет того, что «ворюга мне милей, чем кровопийца». А ведь как сказать, население-то может выбрать и по-иному. Ведь у кровопийц нередко бывает этакий пассионарный шарм - вспомним рассуждения Раскольникова о Наполеоне, - ворюги же, тем паче ворюги на экспорт, как правило, никаким шармом не обладают. Потому народы в истории частенько выбирают по-другому, чем Бродский.
На самом деле, вопрос состоит единственно в следующем: неизбежно ли гнать к этой страшной ситуации, когда население данной страны окажется только перед таким и никаким иным выбором? Если мы хотим войти в мировое цивилизованное на тех условиях, которые нам сегодня предлагаются в обмен на наши идеологические обязательства, нам придется либо пройти путь компрадорства до некоего неочевидного конца, либо в какой-то момент срываться в фашизоидную фрустрацию со всеми последствиями.
Все, о чем сейчас надо думать, - так это о способах предотвратить подобный выбор, уклониться от него. Есть ли по существу такая возможность? В последние годы мы слушали столько насмешек нал «третьими путями», что даже неловко высказывать напрашивающуюся мысль: пока - не входить в мировое цивилизованное, не садиться на трехногий стул, который нам там приготовлен, продумать, не осталось ли в запасе для такого вхождения неких возможностей, скрывающихся имплицитно в нынешнем, еще сильно внесистемном положении России. Нельзя ли еще использовать эту внесистемность для реорганизации и внутренних сил, и внешнего потенциала страны? Все ли варианты нашего отношения к мир-системе рассмотрены, не остались ли пропущены такие, которые давали бы шанс фрустрирозать вызов неприемлемого выбора?
Что касается социально-политической программы, то главный вопрос сегодня в следующем: возможно ли в нашей стране такое принятие либерально-гуманистических норм, выработанных Западом, такое претворение их, которое было бы ради этой страны, а не ради оправдания ухода от нее? Именно так: может ли западник в России быть либералом и западником для России, а не для Запада? Причем не в начале века, не в дни Милюкова и Струве, а в наши дни, когда мы обсуждаем шансы русского фашизма?
.
источник - http://khazin.livejournal.com/50528.html - там еще комментарии интересные
- Нет комментариев

katehon
Алексей Навальный: Как пилят в ВТБ
что происходит?, кризис, модернизация россии, В мире
Давайте признаемся честно: «невидимая рука рынка» есть идеальный дистрибьютор коррупции.
«Невидимая рука» саму коррупцию делает «невидимой». А «невидимость» коррупции не означает её отсутствия. Просто её сложнее обнаружить. Очень показательный пример как взаимовыгодное (в личном плане) сотрудничество олигархов и чиновников оборачивается убытками или для акционеров предприятий, с одной стороны, или для граждан, с другой стороны.
Ну а уж если вам повезло быть и акционером, и гражданином одновременно :-)) — поздравляю, вы рискуете оказаться в двойном пролёте. Раньше только государство понемногу кровь сосало, а теперь... в два горла пьют. Причём, это общая практика либеральной модели экономики.
http://www.youtube.com/user/navalny Акционеры банка ВТБ ведут расследование мошеннических действий «эффективных менеджеров»
- 1 комментарий

katehon
Особое мнение / Среда, 24.03.2010: Михаил Хазин, экономист
модернизация россии, что происходит?, экономический кризис, просто о сложном, В мире
Отличная передача! От раза к разу всё острее и смешнее.
Хазин зацепил «ведущую» Чубайсом. Ведь далеко не секрет, что для «Эха» Чубайс, Гайдар, Немцов и прочие — это практичeски «герои России». А тут такое откровенное заявление на их человека. Забеспокоилась бедняжечка. Но девушка настолько непрофессиональна (а проще говоря — глупа), что кроме заикания ничего не смогла сказать. Да и всё в этом деле настолько очевидно, что она была просто смешна, пытаясь хоть как-то защитить Чубайса.
А. САМСОНОВА: 17 часов 8 минут. Это время программы «Особое мнение». Меня зовут Тоня Самсонова. Я сегодня беседую с Михаилом Хазиным, экономистом, президентом консалтинговой компании «НЕОКОН». Здравствуйте.
М. ХАЗИН: Добрый день.А. САМСОНОВА: Волшебная история произошла с немецкой компанией «Даймлер», попалась она на откатах в 22 странах, и власти США обвиняют эту компанию в даче взяток представительствам и представителям, как минимум, 22-х иностранных государствах. Пока это не подтверждено, но, возможно, «Даймлеру» придется выплатить США штраф в размере 185 млн. долларов. Среди этих 22 стран есть и Россия. По данным, «Даймлер» потратила на откаты в России 3 млн. евро в обмен на заключенные контракты.
М. ХАЗИН: Маловато что-то. Был такой фильм «Все женщины делают это». Я просто вспоминаю, когда был знаменитый скандал с компанией «Энрон», то кто-то меня спрашивал: «А как же они вот так вот?..» Я говорю: «Вам что, не приходило в голову, что это общая практика?» На самом деле, безусловно, это общая практика, тут никуда не денешься. У тех же США рыльце в пушку: они всех подслушивают, есть такая программа «Эшелон», как известно, которая прослушивает всё и вся. Поэтому бессмысленно предъявлять претензии.
Я понимаю, что США сегодня кровно заинтересованы в защите отечественных производителей, история с «Тойотой», с «Ниссаном» в этом смысле очень показательна. Пока всё было хорошо, была конкуренция. Как только ситуация стала стремительно ухудшаться, с конкуренцией решили бороться радикальными методами: все компании равны, но отечественные равны особенно – в полном соответствии с классиком.
Я бы сказал, что то, что сейчас происходит, кризис, это разрушение мифов очень многих: мифов о свободных рынках, мифов о демократических отношениях между государствами и прочие вещи. Это известная штука, что богатое государство может себе много чего позволить, даже демократию и некую фронду.
А. САМСОНОВА: И, о господи, даже борьбу с коррупцией.
М. ХАЗИН: Ну да, только очень аккуратную. Потому что если государство богатое, ну чего бороться с коррупцией – всё хорошо. А вот когда плохо, то нужно искать виновных и уничтожать конкурентов. И тут все средства хороши. По этой причине я считаю, что такого рода истории – не важно, поиски коррупционеров, поиски любых виновных, – они будут всё время усиливаться очень сильно. Классический пример, от которого у меня, признаться, челюсть отвисла. Дело даже не в содержании, а в реакции.
Президент Обама пробивает через Конгресс законопроект о реформе медицинского обеспечения в стране. Есть доводы «за», есть доводы «против». Я считаю, что Обама прав. Но я при этом исхожу из того, что жизненный уровень населения США будет резко падать. И в этой ситуации для Обамы, как для ответственного лидера своей страны, недопустимо, чтобы треть населения была лишена возможности получать медицинскую помощь. Те люди, которые живут в США, возможно, считают, что кризис уже закончился, и в этом смысле не то что трети, десяти процентов не будет. Но Обама подписывает законопроект. И в тот же день 14 штатов подают в Верховный суд его опротестовывать.
Это свидетельство очень сильной внутренней напряженности в обществе. Ну зачем в тот же день? Давайте разберемся, какая будет практика исполнения, как это всё будет устроено, давайте спорить по отдельным применениям, давайте спорить о масштабах увеличения налогообложения. Но вот так вот – это означает, что неладно что-то в королевстве датском.
А. САМСОНОВА: Михаил, позвольте одно предложение. У нас сейчас возникло две темы: одна связана с коррупцией и «Даймлером», другая – важная тема – с законом о здравоохранении.
М. ХАЗИН: Это одна тема.
А. САМСОНОВА: Можно только про «Даймлера» я вас спрошу. Вы говорите, что США таким образом борются с конкуренцией на внутреннем рынке. Чем компания «Даймлер Крайслер» вредит США, что она разворачивает такую кампанию?
М. ХАЗИН: «Даймлер» уже не «Крайслер». «Крайслер» уже продан, его купила группа «Фиат».
А. САМСОНОВА: Чем компания «Даймлер» так сильно насолила властям США, что они решили…
М. ХАЗИН: Я не занимаюсь специально изучением компании «Даймлер».
А. САМСОНОВА: Вы просто говорите, что США всё это делает для защиты внутренних производителей.
М. ХАЗИН: Вот чем навредили «Тойота» и «Ниссан», я хорошо понимаю.
А. САМСОНОВА: Тогда почему вы говорите, что США это делают для борьбы с «Даймлером»?
М. ХАЗИН: Они это делают ради борьбы с конкурентами, а не ради борьбы с конкретным «Даймлером». Почему они выбрали «Даймлер», я не знаю, это какие-то внутренние вещи. Но то, что такого рода истории, как с «Тойотой», с «Ниссаном», с «Даймлером», сейчас будут увеличиваться, это однозначно.
А. САМСОНОВА: Тогда еще один вопрос. «Даймлер» работает в России. Мы не первый день слышим о том, что в России есть коррупция, но как-то казалось, что иностранные компании, может быть, в силу той международной компании, как-то они чище, чем российские. Можно ли в России быть представительством иностранной компании и не участвовать в коррупции?
М. ХАЗИН: Я вообще не понимаю, как можно в нашем мире не участвовать в коррупции. Еще раз повторяю, я не знаю ни одной страны, где бы ни было коррупции, вообще ни одной. Другое дело, что у нас не коррупция, а взяточничество. Условно разделить можно так. Коррупция – это когда человек берет деньги за то, что он исполняет свои служебные обязанности.
Условно говоря, есть две компании, я чиновник, я должен принять решение – либо сюда, либо сюда, и я вполне резонно считаю, что поскольку я в данный момент оказал благодеяние именной этой компании, а не той, она должна меня отблагодарить. Как чиновник, с точки зрения государства, я никаких не делают неприятностей, потому что я всё равно должен выбрать. Можно, конечно, предположить, что компания, которую я выбрал, из-за того, что она дала мне взятку, увеличит стоимость своих услуг на нашем рынке, но, по большому счету, эта взятка по сравнению с общим объемом такая маленькая, что это всё несерьезно.
А взяточничество, которое у нас, это очень интересная штука. Это плата за место. Грубо говоря, человек говорит: «Я ставлю подпись на этой бумажке, и за это мне дают деньги». При этом что в этой бумажке написано и свои служебные обязанности – меня это совершенно не волнует. Соответственно, я подписал бумажку – за это будьте любезны дать денег. А при этом получится у вас работать, не получится, меня не касается. Иными словами, во всем мире, с точки зрения коррупции, деньги берут за то, чтобы все-таки процессы шли, а у нас берут деньги и ничего не делают. И вот это плохо.
А. САМСОНОВА: Есть компании в России, пусть российские, пусть иностранные, которые не участвуют в коррупции.
М. ХАЗИН: Не знаю, может, и есть.
А. САМСОНОВА: Теоретически можно такое предположить?
М. ХАЗИН: Теоретически, наверное, можно.
А. САМСОНОВА: Еще интересно про «Даймлер». США обвиняют в том, что в 22-х странах это происходило. Почему только США из этих 22 стран начало бороться с коррупцией? Остальным это неважно?
М. ХАЗИН: Вот это меня совершенно не волнует. Почему это делают США, я уже объяснил.
А. САМСОНОВА: А почему не делает Россия?
М. ХАЗИН: Это вы меня спрашиваете?
А. САМСОНОВА: Да.
М. ХАЗИН: Спросите Владимира Владимировича Путина или Дмитрия Анатольевича Медведева. Может быть, они вам объяснят. У меня ощущение такое, что одно дело – говорить слова, другое дело – делать дела. Я пока вообще не вижу, чтобы кто-нибудь какие-нибудь дела делал. Результатов не видно.
А. САМСОНОВА: Еще один коррупционный скандал связан с большим московским чиновником – г-ном Рябининым. По версии следственного комитета, он вынудил предпринимателя, личность которого не разглашается, по подложным документам передать своей дочери помещение площадью 200 квадратных метров, в 600 тысяч долларов оно оценивается. Мэрия сейчас заявила о невиновности заместителя Лужкова. Действительно, еще нет никакого приговора, только следствие. Но должно ли такое серьезное подозрение являться достаточным основанием для отставки чиновника до того, как был суд?
М. ХАЗИН: В этой студии где-то полгода тому назад меня спрашивали: «Если бы президентом были вы, чтобы бы вы сделали?» Я бы сделал очень простую вещь, я тогда же об этом и сказал. Все чиновники должны подать, принести две бумаги: одни бумаги – стоимость имущества, другие бумаги – полученные официально доходы, с которых уплачены налоги. Если стоимость имущества оказывается больше, чиновник увольняется с госслужбы. Никаких уголовных дел, просто увольняется с госслужбы. Я понимаю, что у нас из трех миллионов чиновников осталось бы сто человек. Ну и ладно. От них всё равно пользы не очень много, от большинства. Вот и давайте разбираться. Если кто-то считает, что у г-на Рябинина стоимость имущества существенно меньше, чем объем зарплаты, которую он получил, тогда это навет. А если стоимость его имущества больше, чем зарплата, которую он получил, то обвинители имеют моральное право об этом говорить вслух.
А. САМСОНОВА: А если до того, как он стал государственным чиновником, он был бизнесменом?
М. ХАЗИН: Еще раз повторяю, речь идет о налогах. Он заплатил налоги с некой суммы. Был он бизнесменом, не был бизнесменом – какая разница? Ну, был бизнесменом, у него написано, что он получил зарплату аж 120 тысяч долларов. Вот, пожалуйста, предъявите, что у вас имущество не превышает 120 тысяч долларов.
А. САМСОНОВА: Еще одна история, которая напрямую связана с коррупцией. Это история про рост российского ВВП. Всемирный банк очень оптимистично сегодня выступил, он повысил прогноз роста российского ВВП в 2010 году до 5,5%, в 2011-м году – 3 до 3,5%. В этом смысле мне интересно, разделяете ли вы оптимизм Всемирного банка, с одной стороны. А с другой стороны – чем такой рост может быть обеспечен?
М. ХАЗИН: Это же не сценарный расчет. Иными словами, при наличии некоторых условий рост может быть такой. Бывают такие условия? Да, бывают.
А. САМСОНОВА: Цена на нефть.
М. ХАЗИН: Например. Можно всякое придумать. Хорошо, цена на нефть, годится. Пускай она будет 300 долларов за баррель. И будет счастье. Другой вопрос, а какова вероятность этого сценария. Тут мы немедленно вылезаем в самые разные вещи. Потому что на самом деле прогнозы мирового банка, с нашей точки зрения, с точки зрения компании «НЕОКОН», мягко говоря, неадекватны. Причем неадекватны они по системным причинам. Они изначально выбрали модель, в рамках которой у нас не то чтобы всё хорошо, но мы из кризиса выходим. На самом деле мы из кризиса не выходим, кризис продолжается и будет продолжаться дальше.
В этом смысле рассчитывать на то, что всё будет хорошо, наивно. Ну, хорошо, Мировому банку так нравится. Кроме того, нужно понимать, что Мировой банк – это система, тесно ассоциированная с мировой финансовой элитой, которая совершенно не хочет нести ответственность за то, что произошло в последние годы, и уж тем более не хочет нести ответственность за то, что произойдет. Поэтому она, соответственно, всем втирает очки, условно говоря.
А. САМСОНОВА: Таким образом, в позитивных прогнозах Мирового банка мы что, должны видеть неправильность – с точки зрения компании «НЕОКОН», например, – неправильность аналитических моделей, или это злой умысел или еще какой-то умысел?
М. ХАЗИН: Это не есть злой умысел, с точки зрения того, что это заговор. Это не заговор. Это, если угодно, самоуговаривания: «всё хорошо, прекрасная маркиза», все поют хором, «раскинулось море широко». А на самом деле та модель, которую они используют для описания реальности, сегодня реальности не соответствует. У нас своя модель, из нее следуют другие результаты. Пока наша модель более адекватна по тому, что было.
А. САМСОНОВА: Один из важных показателей, который Всемирный банк использует в своих прогнозах, это прогноз цены на нефть. В этом смысле обидно видеть, насколько сильно от нефти зависит прогноз роста ВВП. Может быть, чтобы нам не было так обидно, создается проект Силиконовой долины. Вчера Медведев сказал, кто же будет его возглавлять. Его возглавит глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг. Для начала просто интересно ваше отношение к такому назначению.
М. ХАЗИН: Не знаю. Я не знаю, какая цель у Медведева. Что он хочет?
А. САМСОНОВА: А цель Силиконовой долины вам понятна?
М. ХАЗИН: Я не понимаю, чего он хочет сделать.
А. САМСОНОВА: Т.е. вы этот проект не видите как реальный?
М. ХАЗИН: Еще раз повторяю, я не понимаю, что он хочет. Может быть, это гениальная идея. Но я не знаю, что это. Мне не понятно. Если речь идет о том, чтобы распилить деньги… Вот чем занимается Чубайс, я понимаю: ему выделили бюджет, он его пилит. Никаких результатов там не будет никогда, но, собственно, никто и не планирует результат, это очевидно. Последняя их вещь – это они собираются создавать фонд на Западе. Это чистый вывод капитала.
А. САМСОНОВА: А почему вам это очевидно? Просто мне, например, не очевидно.
М. ХАЗИН: Потому что я знаю Чубайса.
А. САМСОНОВА: Т.е. просто из личного отношения к Чубайсу.
М. ХАЗИН: Я просто знаю Чубайса. Я сидел в администрации президента и контролировал его деятельность на посту первого вице-премьера. Я знаю, как он работает, я знаю, кто у него работает.
А. САМСОНОВА: Он нечистоплотен, по вашему мнению?
М. ХАЗИН: Причем здесь это? Это к чистоплотности не имеет отношения.
А. САМСОНОВА: Это серьезное обвинение – он пилит бюджет. Это почти уголовное обвинение. Вы же его на чем-то строите.
М. ХАЗИН: Распил бюджетов – это не уголовный термин, это термин художественный.
А. САМСОНОВА: Хорошо. Что этот эвфемизм под собой скрывает?
М. ХАЗИН: Соответственно, у вас имеется некоторое количество формальных проектов, под которые реально выделяются деньги, из которых нет никаких результатов.
А. САМСОНОВА: А когда вы контролировали его деятельность, вы каким-то образом пытались… если не возбуждать дела…
М. ХАЗИН: Я не возбуждаю дела. Администрация президента не возбуждает дела.
А. САМСОНОВА: Безусловно. Но вот вы видите, что человек занимается не тем, чем должен был бы. Что вы сделали?
М. ХАЗИН: Его уволили, между прочим, по итогам, 23 марта 1998 года.
А. САМСОНОВА: Но теперь у него должность, где он, по вашему мнению, занимается тем же самым.
М. ХАЗИН: Кто его назначал, с того и спрашивайте. Меня почему вы спрашиваете?
А. САМСОНОВА: Потому что вы его обвиняете.
М. ХАЗИН: Я его не обвиняю, я просто констатирую факт. Покажите мне хотя бы один успешный пример деятельности Чубайса.
А. САМСОНОВА: Покажите мне пример, почему его можно называть распильщиком.
М. ХАЗИН: Потому что деньги выделяются и исчезают. Эффекта никакого нет.
А. САМСОНОВА: Потому что это рассчитано на долгосрочную перспективу, например.
М. ХАЗИН: Хорошо. Вы считаете, что будет перспектива, давайте поговорим через 10 лет.
А. САМСОНОВА: Я просто пытаюсь понять.
М. ХАЗИН: Я вижу результат деятельности. Я его знаю с 1995 года. Я вижу результаты. Точнее сказать, отсутствие результатов. Отсутствие денег вижу, отсутствие результатов тоже вижу. Дальше я делаю естественный прогноз.
А. САМСОНОВА: Ваш прогноз по поводу Силиконовой долины. Есть какие-то основания считать, что будет всё по-другому у нас?
М. ХАЗИН: По-другому что? Цель какая?
А. САМСОНОВА: Будут результаты.
М. ХАЗИН: Какие результаты?
А. САМСОНОВА: Какие-то. Силиконовая долина, диверсификация экономики, какие-то разработки.
М. ХАЗИН: Какая может быть диверсификация экономики от того… Я не вижу постановки задач. Какой результат хотят получить от проекта, который называется у нас Силиконовая долина? Что хотят получить? Инновации? Что это такое?
А. САМСОНОВА: Вы бы не выделяли деньги на это пока что.
М. ХАЗИН: Я не знаю. Если бы была задача – сделать некоторые проекты по части диверсификации российской экономики, то я бы делал немножко другое. Что касается инноваций, то, с точки зрения экономики, я не вижу сегодня успешности самой инновационной модели. Это просто невозможно. Я напоминаю, что современная экономическая модель возникла в начале 80-х, в 1981 году. Она была разработана при президенте Картере, но Картер на второй срок не избрался, поэтому эта модель получила название рейганомика. Разрабатывала ее группа экспертов, одним из лидеров был Пол Волкер, который ныне советник Обамы. В чем состояла суть этой модели? В стимулировании спроса домохозяйств, в кредитовании домохозяйств. Собственно, что сейчас происходит – происходит обвал этого кредитного пузыря. Слишком много давало.
А. САМСОНОВА: Произошел.
М. ХАЗИН: Он пока только начался. Вопрос – а зачем они это делали? Ну что, из любви к искусству, что ли? Не давали, не давали денег и вдруг неожиданно стали давать деньги домохозяйствам. Ситуация очень простая. В 70-е годы в США был кризис, и падали доходы домохозяйств. А когда у домохозяйств падают доходы, они категорически отказываются покупать инновации. Они не покупают новое, потому что у них не хватает денег на старое. Грубо говоря, если у вас с трудом хватает денег, чтобы выплатить очередной взнос за дом, в котором вы живете, который куплен в рассрочку на 30 лет, или чтобы насобирать деньги на то, чтобы ребенок поступил в колледж, то вы не будете покупать персональный компьютер, вы без этого переживете. Это сегодня без него никто жить не может, а тогда он стоил дороже, и было совершенно не понятно, для чего он нужен. Игрушка.
Такая же ситуация сегодня. Жизненный уровень населения падает во всем мире, безработица растет. В США по одному показателю – 10% безработица, по другому – уже скорее 18% безработица. Это очень много – 18%, с учетом неполной занятости. И в Европе тоже растет безработица, и в России растет безработица. И в этой ситуации вкладывать деньги в инновации… Кто их купит? Пока вы не объясните, кто и почему это купит, это бессмысленно.
Хорошо, когда это какие-то фильтры Петрика, под которые Министерство финансов заставляют выдавать деньги, потому что в противном случае партия «Единая Россия» отказывается утверждать бюджет. Но это как раз не имеет никакого отношения к инновациям, это совершено другой механизм. А инновации для кого? Сколько Чубайс уже этими нанотехнологиями занимается? Два года? Вот что они сделали за два года? Я знаю людей, которые реально какие-то инновации делают. Более того, я даже знаю людей, которые их реализовывают. Более того, я даже знаю людей, которые на этом заработали довольно большие деньги сами.
Что сделала команда Чубайса? Сама по себе схема чистых инноваций сегодня не работает по экономическим причинам. И это, кстати, большая проблема. Грубо говоря, 30 лет вас учили менеджменту в соответствии с некоторыми моделями. Собственно, у Чубайса вся команда – те, которые молодые, – они все с дипломами MBA, техникума советской торговли и так далее. И все учили в соответствии с моделью, которая была с 1981 года, модель, основанная на трех основных принципах: спрос всё время растет, денежное предложение всё время растет, стоимость кредита всё время падает. И под это дело были выстроены все модели управления: что бизнеса, что государственного управления экономикой. Сегодня эта модель больше не работает.
А. САМСОНОВА: Какая ей придет на смену?
М. ХАЗИН: А вот этого никто не знает. Мы сегодня на спаде. Вот в 70-е годы десять лет был спад непрерывно. И только через 10 лет была придумана, а потом реализована некоторая модель. И никто не знал, что она будет успешной до середины 80-х. А сегодня пока ничего не придумано. Более того…
А. САМСОНОВА: Более того, у нас новости на «Эхо Москвы». Мы прервемся на несколько минут. Программа «Особое мнение», Михаил Хазин, экономист, президент консалтинговой компании «НЕОКОН». Никуда не уходите.
НОВОСТИ
А. САМСОНОВА: Здравствуйте. Мы снова в студии, чтобы продолжить программу «Особое мнение». Тоня Самсонова. Я сегодня беседую с Михаилом Хазиным.
М. ХАЗИН: Еще раз здравствуйте.
А. САМСОНОВА: Мы прервались на том, что пока нет модели, пока сложно себе представить модель, которая придет на смену той, которая закончилась в кризис.
М. ХАЗИН: Давайте я чуть-чуть закончу. Смотрите, как устроена жизнь. Это опытный факт.
А. САМСОНОВА: После фразы «смотрите, как устроена жизнь», хочется сразу слушать.
М. ХАЗИН: У меня есть замечательная история, абсолютно жизненная, из истории 57-й школы, про замечательную фразу «Ты жизни не знаешь». Но она, к сожалению, длинная, поэтому мы ее отложим. Если у нас имеется отрасль, в которой суммарный ее оборот, скажем, миллион и в ней есть 20 компаний, тогда средний оборот компании получается… 50 тысяч.
А. САМСОНОВА: Экономист тут вы.
М. ХАЗИН: Я мехмат окончил, у математика всегда страдает устный счет. Хорошо, пускай тысяча и 20 компаний, средний годовой оборот – 50. Есть компании маленькие, у которых оборот 2-3, есть компании большие, у них оборот 100-120-150. Если из-за кризиса оборот отрасли уменьшается в два раза, с 1000 до 500, то в отрасли остается не 10 компаний, т.е. они уменьшаются не в два раза, а пять. Иными словами, если у вас кризис в отрасли, то количество компаний уменьшается сильнее, чем отрасль. Но если у вас при общем объеме 500 пять компаний, то в среднем на одну компанию приходится уже не 50, а 100, т.е. в два раза больше. Иными словами, если идет достаточно длительный кризис, то тот, кто пережил начало кризиса, потом получает лучшие условия, чем даже были до кризиса. Это связано со снижением конкуренции. Разумеется, те, кто был связан с правительством, с бюджетом или кто имеет эксклюзивные преимущества… Но обычно эти компании сразу выкидываются, это не рыночные объекты, мы их выкидываем.
Что сейчас делают США? Они в рамках своей рыночной конкуренции выкидывают те компании, которые не отечественные, т.е. они защищают свой рынок для своих компаний, улучшают условия для них. Так вот в этой ситуации тот, кто выживает в начале кризиса, тот уже потом чемпион. Есть известное мнение, абстрактная мудрость…
А. САМСОНОВА: И поэтому они обрушились на «Даймлер».
М. ХАЗИН: В частности. Они же не обрушиваются на свои компании. Хотя тут тоже есть свои проблемы, но они связаны скорее с инфраструктурными проблемами, чем с отраслевыми, они в основном на рейтинговые агентства обрушились. Так вот вся проблема состоит в том, чтобы выжить в начале кризиса. Lehman Brothers обанкротился в самом начале кризиса. Для того чтобы это сделать, чтобы проскочить, нужно, чтобы менеджмент был адекватен ситуации, чтобы он понимал, что если кризис начался длинный, то не нужно брать кредитов, а надо пытаться выжить на собственных резервах и так далее.
Проблема состоит в том, что менеджмент выучен под старые правила. И основная проблема современной жизни, которая есть у владельцев компаний и у топ-менеджмента верхнего (который обычно тоже является совладельцем), это то, как переобучить менеджмент под то изменение ситуации, которое происходит. Не нужно им объяснять, какие правила будут потом. Потому что кризис, он идет сейчас, нужно принимать решения сейчас. Нужно им сегодня объяснить, что делать можно, чего делать нельзя, несмотря на то, что это противоречит всем тем правилам, которым их учили в бизнес-школах, университетах и так далее.
Причем то, что сейчас происходит, очень сильно противоречит этим правилам, которым их учили. Мы просто этим занимаемся. Более того, мы даже подготовили целый курс современной экономики в рамках кризиса. Мы – в смысле компания «НЕОКОН». Мы просто видим, насколько по-разному нужно себя вести сегодня по сравнению с теми базовыми принципами, которые были. Кстати, классический пример ошибочного поведения – это Исландия и Греция.
А. САМСОНОВА: Давайте немножко про Россию, а потом про Исландию и Грецию.
М. ХАЗИН: Давайте про Россию.
А. САМСОНОВА: Тут такая история. «ЛУКойлу» пришлось выйти из проекта Анаран в Иране в связи с невозможностью – как написано в их официальной информации – осуществления дальнейших работ на месторождении из-за наличия экономических санкций со стороны правительства США. Убытки от того, что обесцениваются инвестиции в Иран, составили 63 млн. долларов для компании «ЛУКойл».
Это всё довольно напрямую связано с нашим экономическим ростом и с тем, что сейчас стоит вопрос, какие должны быть санкции к Ирану. Хиллари Клинтон говорит, что они должны быть «зубастые» (это цитата). Россия думает, присоединяться к этим «зубастым» санкциям или нет. И есть компании, которые очевидно пострадают в России, такое иранское лобби, от того, что мы примем, например, эти санкции. Какой мы должны сделать выбор? Мы должны защитить свои компании и не вводить эти санкции, или сделать всё, чтобы не было ядерной бомбы и ввести максимально жесткие санкции?
М. ХАЗИН: Давайте скажем сразу – бомба тут вообще ни при чем. Бомба – это повод, а вовсе не причина. Можно, конечно, говорить о том, что есть Израиль, который до безумия боится Ирана, и по этой причине израильское лобби в США тему по поводу бомбы активно муссирует. Израиль, действительно, боится, но для мирового сообщества никакой угрозы со стороны Ирана нет и никогда не будет.
А. САМСОНОВА: Если он, не дай бог, взорвет ядерную бомбу…
М. ХАЗИН: Зачем ему взрывать? Вот Израиль, у него сколько лет уже ядерная бомба? И ничего не взрывает. В чем проблема? Цивилизация древняя. Иран более древняя цивилизация, чем Израиль.
А. САМСОНОВА: Вы понимаете, кто в Иране, в случае чего, будет нажимать на кнопку, как будет действовать этот механизм?
М. ХАЗИН: Такие же люди. А в Израиле что, известно, что ли, кто будут эти люди.
А. САМСОНОВА: Как-то прогнозируется. Это система с меньшим количеством неизвестных.
М. ХАЗИН: Ничего подобного. У них абсолютно всё понятно. Другое дело, что в Израиле, может быть, кто-то знает этих людей. В Иране их знают меньше. Так отмените санкции, они будут ездить, вы их будете знать. Это не проблема. Давайте сразу разбираться. Я понимаю, что может быть нелюбовь кого-то к кому-то. Русские и поляки друг друга на протяжении многих веков друг друга традиционно не любят. Это связано со многими историческими причинами, прежде всего из-за конкуренции в средние века,
Речи Посполитой и русского государства. А дальше история уже пошла. Но это не имеет никакого отношения к реальным вещам. Мы можем говорить какие-то страсти про поляков, поляки могут говорить какие-то страсти. Собственно, и говорим, и они про нас, и мы про них. Но это к реальности не имеет не то чтобы никакого, но слабое отношение. Так же и тут.
Давайте фобии Израиля по поводу Ирана мы сразу выводим за скобки. Я понимаю, что часть нашей передачи идет на Израиль, но мы, слава богу, сидим не там. Еще раз повторяю, это не значит, что нет проблем с иранской бомбой. Но точно так же есть проблемы с Израилем, вон они палестинцев обижают. Израиль, конечно, может говорить, что его обижают палестинцы. Но с Ираном та же самая проблема. Прежде чем говорить о политике России в отношении Ирана, давайте разберемся, чего мы хотим. Цель наша какая? Вот какая цель у США – понятно.
А. САМСОНОВА: Какая?
М. ХАЗИН: Они хотят, чтобы все страны мира, у которых есть хотя бы какой-то голос, вели себя в соответствии с теми правилами, которые устанавливаются в Вашингтоне. Это стандартная позиция любой империи. СССР себя вел точно так же: написаны правила игры, будьте любезны – либо вы им следуете, тогда вы с нами, либо вы им не следуете, тогда вы чужие. Точно так же делают США. Иран не выполняет наши правила, не следует им – значит, они враги.
А. САМСОНОВА: Поэтому США разрешают компании Google самостоятельно разбираться с Китаем и говорят о том, что это не окажет влияния на отношения двух стран?
М. ХАЗИН: С Китаем ситуация особая. Дело в том, что сегодня США от Китая зависит очень сильно.
А. САМСОНОВА: Поэтому они не хотят…
М. ХАЗИН: Поэтому они стараются минимизировать конфронтационные темы. Хотя они регулярно всплывают – от Тайваня до внутреннего курса юаня. Я думаю, что экономическая напряженность будет нарастать. Собственно, она уже нарастает: Китай очень активно начинает сокращать свои запасы американских казначеев. Там целая куча проблем возникает.
Иран в этом смысле страна меньше. Конечно, ему сильно труднее. Но Иран очень важная часть еще потому, что Иран – это очень важный поставщик нефти для Китая. Поэтому Китай будет Иран защищать любой ценой.
А. САМСОНОВА: Нам-то что делать? Защищать свои компании или защищать весь мир от ядерной бомбы?
М. ХАЗИН: Безусловно, защищать весь мир – это не наше дело на сегодня. Вот СССР защищал в рамках своего понимания. Пока я не вижу, какая у нас в целом политика, какая у нас геополитическая, стратегическая цель.
А. САМСОНОВА: У США есть, а у нас нет.
М. ХАЗИН: У США есть, а у нас нет. И по этой причине у нас политика в отношении Ирана ситуативная. Всплыла какая-то тема – мы придумали, как на нее ответить. Вот так.
А. САМСОНОВА: Это Михаил Хазин в программе «Особое мнение», экономист, президент консалтинговой компании «НЕОКОН». Тоня Самсонова. Большое спасибо.
М. ХАЗИН: До свидания.источник - http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/666138-echo.phtml
- 3 комментария

katehon
Актуальность 4 политической теории как парадигмы национальной модернизации
модернизация россии, кризис, просто о сложном, Повод задуматься, Серьезное
Тема модернизации раскрыта. :-)) Особенно её философская, мировоззренческая подоплёка
Доклад, прочитанный в ходе II Международных чтений «Политическая модель будущего. Актуальность 4 политической теории как парадигмы национальной модернизации». Москва, Социологический факультет МГУ им.Ломоносова, 17 марта 2010
- 2 комментария

katehon
Хазин М.Л.: О белорусском опыте управления
модернизация россии, экономический кризис, что делать?, что происходит?, В мире
Всемирный банк изучает белорусский опыт управления экономикой. Что это такое и применимы ли эти механизмы в России?
- 4 комментария

katehon
«Догоняющее развитие» — прагматичная идея или ловушка?
!!!Ахтунг!!!, модернизация россии, кризис, В мире

CORBIS/FOTOSA В итоге за 20 лет произошла и трансформация взгляда на ускользающий мираж — возможно, на руинах СССР кто-то и верил, что новую Россию примут в клуб развитых стран, а теперь трендом у здравомыслящих либералов стала идея снижения притязаний и догоняющей модернизации. Прошли, мол, времена индустриальных побед и полетов Гагарина. Надо перенимать технологии, экономические модели, прагматично дружить с соседями, которых все равно никогда уже не догнать, и в результате хорошего поведения получить право остаться непритязательным провинциальным соседом, так сказать, второго эшелона.
Но сам вопрос догоняющего развития и влияния чужих экономических рецептов на его результаты не так прост. На данный момент внятной теории, объясняющей, почему у одних стран «получилось», у других «получилось стать похожими на первых», а у третьих не получается вообще ничего, у экономистов не существует.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...ИХ НЕ ДОГОНЯТ
.jpg) В течение XX века самые разные страны опробовали на себе вроде бы наиболее успешную неоклассическую модель (или ее элементы), базирующуюся на постулате рационально-эгоистического экономического поведения, механизмах частной собственности, свободной конкуренции и максимизации прибыли. Затем они вполне вроде бы интегрировались в мировую глобализированную систему разделения труда. Но результат получался у всех разный, а в целом хотя бы в какой-то степени приблизиться к уровню развитых западных стран удалось лишь «восточноазиатским тиграм», остальные с переменным успехом отстают — вопрос лишь в том, сильно или катастрофически (график 1). Начиная с 70-х годов динамика роста ВВП у немалого числа развивающихся стран вообще отрицательная — то есть они не только не догоняют, а все больше отстают.
В течение XX века самые разные страны опробовали на себе вроде бы наиболее успешную неоклассическую модель (или ее элементы), базирующуюся на постулате рационально-эгоистического экономического поведения, механизмах частной собственности, свободной конкуренции и максимизации прибыли. Затем они вполне вроде бы интегрировались в мировую глобализированную систему разделения труда. Но результат получался у всех разный, а в целом хотя бы в какой-то степени приблизиться к уровню развитых западных стран удалось лишь «восточноазиатским тиграм», остальные с переменным успехом отстают — вопрос лишь в том, сильно или катастрофически (график 1). Начиная с 70-х годов динамика роста ВВП у немалого числа развивающихся стран вообще отрицательная — то есть они не только не догоняют, а все больше отстают.В результате у целого ряда экономистов появился закономерный вопрос: может быть, на экономическое развитие влияют не только абстрактные законы функционирования капиталистических рынков? И вообще, можно ли исходя только из этих законов рассматривать реальные, динамически развивающиеся во времени экономические системы?
«Неоклассическая теория по своей сути — неподходящий инструмент для анализа и разработки стратегий экономического развития. Она изучает функционирование рынков, а не их развитие. Можно ли разработать экономическую стратегию, не понимая, как развивается экономика? Сами методы, которыми пользовались ученые-неоклассики, задавали предмет исследования и препятствовали такому развитию. Эта теория уже в своей изначальной форме, математически строгой и элегантной, моделировала статичный мир, свободный от трения. Когда она обращалась к экономической истории или проблемам развития, в центре ее внимания всегда оказывались либо научно-технический прогресс, либо — позднее — инвестиции в человеческий капитал. При этом никто не принимал во внимание существование институтов, которые, задавая систему стимулов, определяют тем самым объем вложений, направляемых обществом в обе эти сферы», – говорил в своей нобелевской речи в 1993 году экономист Дуглас Норт. Идея о том, что рынок все расставит по местам в любой точке земного шара, не подтверждается историей: если бы существовали универсальные правила, простое следование которым позволило бы быстро повысить экономическое благополучие, ими бы все давно воспользовались. Однако, по мнению Норта, как раз наоборот — как именно рука рынка будет себя вести и появится ли вообще, зависит от институтов конкретного общества, всей совокупности формальных и неформальных правил поведения, ментальных моделей.
Решающее влияние неформальных структур общества на экономику отмечал и другой известный экономист — Эрнандо де Сото. Изучив экономики стран третьего мира, он пришел к выводу, что главный «тормоз» для их развития сегодня — правовая необеспеченность частной собственности и предпринимательства. То есть де-факто у жителей этих стран, даже из самых бедных слоев, есть материальные активы, но эта собственность юридически не оформлена надлежащим образом и потому не может служить залогом при проведении рыночных операций и использоваться в качестве капитала. Де Сото писал, что совокупная стоимость недвижимости, используемой бедняками стран третьего мира и бывшего соцлагеря и не являющейся их легальной собственностью, составляет не менее 9,3 трлн долларов. А в некоторых странах (Перу, Филиппины, Гаити и др.) стоимость нелегальных жилищ бедняков многократно (от 9 до 158 раз) превосходит активы правительств этих стран или размеры всех прямых иностранных инвестиций.Мысль о том, что всех к светлому будущему приведет именно приватизация и предельно защищенная законом частная собственность, многими разделяется и у нас в России. Идея в том, что развитые страны этот этап уже прошли несколько веков назад, мы же находимся в стадии становления. Но вот в активно развивающемся Китае, например, коллективная и государственная собственность более распространена, нежели частная. Налицо и другое противоречие: в этих странах никто не придумывал специальные «правильные правила», напротив, постепенно институционализировались, выкристаллизовывались практики и формы социального и экономического поведения, характерные для этих обществ. А сегодня всем остальным предлагается поступить совершенно противоположным образом – «навесить» на себя чужую сетку правил, чтобы добиться успеха.
Вот и Дуглас Норт писал, что формальные правила, заимствованные из другой экономики, функционируют совершенно иначе, чем в исходных условиях: «Это, в частности, означает, что перенос формальных политических и экономических правил, свойственных процветающим рыночным экономикам Запада, в страны третьего мира и Восточной Европы не обеспечивает оживления экономики в этих странах. Приватизация не является панацеей от экономической отсталости». Да и как таковой «экономический рост» в современном понимании — явление, которое наблюдается лишь около 250 лет, причем главным образом в Западной Европе и колониальных в прошлом территориях Британии. В самой Западной Европе какого-то общего для всех экономического прогресса тоже нет — если Англия и Голландия неуклонно преуспевали в этот период, то Испания и Португалия, наоборот, все больше сдавали свои позиции.
В России не первый год существует установка, что во всем виновата отсталая ментальность — надо сменить старое мышление на новое, современное, дополнить это списанным под копирку с «правильных стран» законодательством и системой собственности, и все заработает. А вот упомянутый нобелевский лауреат пришел к совершенно другому выводу: не существует никаких гарантий, что эволюция институтов и даже мировоззренческих систем приводит в государстве со временем к экономическому росту.
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ФЕОДАЛИЗМ.jpg) С точки зрения недавно выступавшего с лекцией в Москве норвежского экономиста и консультанта ООН Эрика Райнерта, навязывание «с целью догоняющего развития» большинству стран свободы торговли и специализации на сравнительных преимуществах приводит к совершенно обратному результату для их населения. Поскольку конкурировать на поле инновационных технологий с передовыми странами и корпорациями местным предпринимателям не по силам — на это часто нет ни исходных ресурсов, ни банального запаса времени, то страны в итоге делают выбор в пользу своих изначальных конкурентных преимуществ. А это в большинстве случаев природные ресурсы и дешевая рабочая сила. Первые к тому же исчерпаемы, и их добыча и использование со временем становятся все более дорогостоящими. Райнерт убежден, что исходные «преимущества» сопряжены с мальтузианской динамикой и понижающейся отдачей: вместо развития получаются деиндустриализация (отмирание неконкурентных отраслей собственного производства), деагрикультурализация (отмирание собственного сельского хозяйства) и в итоге депопуляция — все более-менее образованные и перспективные граждане эмигрируют работать в другие страны. Примеры этому — страны Восточной Европы после распада СССР, страны СНГ (Молдавия, Таджикистан и т. д.), Мексика и страны Карибского бассейна. В итоге богатые страны богатеют, но подавляющее большинство стран вовсе их не догоняет.
С точки зрения недавно выступавшего с лекцией в Москве норвежского экономиста и консультанта ООН Эрика Райнерта, навязывание «с целью догоняющего развития» большинству стран свободы торговли и специализации на сравнительных преимуществах приводит к совершенно обратному результату для их населения. Поскольку конкурировать на поле инновационных технологий с передовыми странами и корпорациями местным предпринимателям не по силам — на это часто нет ни исходных ресурсов, ни банального запаса времени, то страны в итоге делают выбор в пользу своих изначальных конкурентных преимуществ. А это в большинстве случаев природные ресурсы и дешевая рабочая сила. Первые к тому же исчерпаемы, и их добыча и использование со временем становятся все более дорогостоящими. Райнерт убежден, что исходные «преимущества» сопряжены с мальтузианской динамикой и понижающейся отдачей: вместо развития получаются деиндустриализация (отмирание неконкурентных отраслей собственного производства), деагрикультурализация (отмирание собственного сельского хозяйства) и в итоге депопуляция — все более-менее образованные и перспективные граждане эмигрируют работать в другие страны. Примеры этому — страны Восточной Европы после распада СССР, страны СНГ (Молдавия, Таджикистан и т. д.), Мексика и страны Карибского бассейна. В итоге богатые страны богатеют, но подавляющее большинство стран вовсе их не догоняет.Если посмотреть на приведенные Райнертом данные по Перу (график 2), то видно, что как только страна «влилась» в мировой рынок, зарплаты как «синих воротничков», так и «белых» пошли вниз. Во имя специализации на внешних рынках в такой ситуации страна правильно делает ставку на наиболее конкурентные там продукты, но гражданам-то от этого жить лучше не становится, «примитивизация» экономики касается и снижения не только их доходов, но и самого статуса. Поясняя этот пример для российской аудитории, ученый отметил: «Чтобы представить себе догоняющее развитие по подобному сценарию, спросите себя: что лучше: быть плохим адвокатом в Москве или хорошей русской посудомойкой в Париже? С точки зрения свободноконкурентной системы мировой торговли экономически правильным вполне может оказаться второе».
Но и трансформация структуры ВВП тоже нерадостна (график 3) – доля реальных зарплат все более снижается, тогда как доля прибылей неизменно растет. Райнерт называет это постиндустриальным феодализмом. При этом он убежден, что этот новый феодализм коснулся сегодня уже и самих развитых стран — в Латинской Америке снижение уровня зарплат началось в 70-е, деиндустриализация «второго мира» после распада СССР в 90-е годы затронула страны бывшего соцлагеря, но и в самих США реальный уровень зарплат и доходов домохозяйств вовсе не растет, а в период нынешнего кризиса проблемы коснулись и жителей благополучной Западной Европы.
СПУРТ ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ?.jpg) Вторая половина XX века показала только один воспроизводимый пример качественного экономического скачка — это азиатские «драконы» и «тигры». Основоположником этой модели «прорыва в развитие» стала Япония, стартовавшая раньше всех (в 50-х годах XX века), затем по этой же дороге (с середины 60-х) прошли Южная Корея, Гонконг, Тайвань, Сингапур, за ними похожий путь проделал ряд стран АСЕАН (Малайзия, Таиланд, Индонезия, Филиппины), а с конца 70-х аналогичную модель успешно применяет Китай (график 4).
Вторая половина XX века показала только один воспроизводимый пример качественного экономического скачка — это азиатские «драконы» и «тигры». Основоположником этой модели «прорыва в развитие» стала Япония, стартовавшая раньше всех (в 50-х годах XX века), затем по этой же дороге (с середины 60-х) прошли Южная Корея, Гонконг, Тайвань, Сингапур, за ними похожий путь проделал ряд стран АСЕАН (Малайзия, Таиланд, Индонезия, Филиппины), а с конца 70-х аналогичную модель успешно применяет Китай (график 4).Самыми общими характерными чертами данной модели являются ставка на дешевую, достаточно квалифицированную и дисциплинированную рабочую силу (на первом этапе), активная организационная и институциональная роль государства, агрессивный наступательный протекционизм, тщательно отобранные приоритетные направления прорыва.
Латиноамериканская модель, ориентирующаяся на внешние займы и приток иностранного капитала, высокий уровень социальной дифференциации и выкачивание сверхприбыли, а также либерализацию и методы монетарной и бюджетной политики, рекомендуемые МВФ, демонстрирует периодами весьма высокие, хотя и очень нестабильные темпы экономического роста (график 5) — подъемы здесь чередуются с острыми кризисами, а плоды развития достаются далеко не всем слоям общества.
Восточноевропейские экономики (бывшие социалистические страны), практически все следовавшие в своих реформах рецептам так называемого вашингтонского консенсуса, испытали в результате этого глубокое падение. Первый период модернизации (особенно для беднейших из них) был связан с индустриализацией по советскому образцу и специализацией в рамках СЭВ, второй период подъема — вторичная индустриализация — стал наблюдаться только после их приема в ЕС и связан с переносом производственных мощностей из более развитых западноевропейских стран (график 6).
Самое тяжелое впечатление остается от анализа экономической статистики большинства африканских стран, так как большую часть времени за последние 60 лет темпы роста ВВП в расчете на душу населения в них находились вблизи нуля, а то и вовсе глубоко в отрицательной области значений (график 7). Именно по этой причине эти государства иногда относят к так называемому четвертому миру, то есть к числу стран, не имеющих шансов на развитие. Оживление их роста в начале XXI века связано с высокой конъюнктурой и как следствие бурным подъемом цен на топливно-сырьевые товары.
Интерес представляет и ряд крупных стран Западной и Южной Азии. Они (например, Турция или Пакистан) демонстрируют довольно устойчивую динамику, характеризующуюся темпами роста вблизи общемировых средних значений, однако выраженную тенденцию к ускорению демонстрирует в последние два-три десятилетия только Индия (график 8).
Таким образом, «восточноазиатская модель» остается вне конкуренции по эффективности. От уровня неразвитых стран (например, на момент старта душевой ВВП Южной Кореи не отличался от беднейших африканских стран) этим экономикам удалось дойти до уровней, соотносимых с показателями Евросоюза (а в некоторых случаях и превышающих их). Существует множество объяснений прорыва Юго-Восточной Азии: и особенности менталитета в этом регионе, и конкретная историческая ситуация, и западные инвестиции. Опыт этих стран пытались перенимать многие. Даже на микроэкономическом уровне до сих пор выходит масса бизнес-литературы с названиями вроде «Дзен как путь успеха вашей компании», где подаются некие азиатские рецепты в виде микса восточной философии и бизнес-кейсов южнокорейских или тайваньских корпораций. Однако вряд ли они подойдут для стран с иными культурами.
МЕДВЕДЬ ТИГРУ НЕ ТОВАРИЩВ последние годы развитие России больше связывалось с руслом, в котором движутся страны БРИК. Бразилия, Индия, Китай и Россия — крупные и быстроразвивавшиеся рынки. В 2003 году аналитики Goldman Sachs предположили, что именно эти страны войдут в XXI веке в число главных мировых экономических игроков. Как писал в конце 2009 года американский экономист Нуриэль Рубини, прогноз оправдался на 75%, однако на роль России в «четверке» с конца прошлого года предлагают уже другие страны. Падение российского ВВП в кризисном 2009 году на 7,9% стало самым большим среди стран «большой восьмерки» и БРИК — в Бразилии падение составило 5%, а Китай и Индия показали рост ВВП (на 8,7% и 6,8%).
В 2005 году Goldman Sachs добавили к БРИК еще одиннадцать стран, потенциально способных на серьезный экономический рост: это Бангладеш, Вьетнам, Египет, Индонезия, Иран, Мексика, Нигерия, Пакистан, Турция, Филиппины и Южная Корея. И вот сейчас западные эксперты уже придумывают название для новой лидирующей группы быстрорастущих — BRICET (плюс Восточная Европа и Турция), BRICKETS (то же плюс Южная Корея) или BRIMC (плюс Мексика). Сам Нуриэль Рубини отдает предпочтение Индонезии как стране, способной заменить Россию в нынешней «четверке». Еще недавно военная диктатура, разрушительный азиатский кризис 1997 года, цунами 2004 года, рост радикальных исламских настроений, невысокий ВВП на душу населения — и все же экономические перспективы страны видятся экономистам вполне серьезными. К тому же, пока в России население сокращается, Индонезия стала четвертой в мире по численности населения страной с 230 миллионами граждан. «На целую Германию (80 млн человек) больше, чем Россия», — пишет Рубини.
Понятно, что в оценках России западными экспертами часто есть некоторая идеологическая предвзятость. Но вся эта история с «выпавшим Р» говорит о том, что вариант тихого догоняющего роста ничего не гарантирует — Россию и так никто особенно не зовет на «праздник жизни», а при малейших проблемах откровенно просят «на выход» — благо других желающих вокруг хватает.
ШАПКА ПО СЕНЬКЕ?В самой же России вопрос «догоним или не догоним» сегодня явно носит уже не экономический, а мировоззренческий характер. В этом смысле весьма показательной была, например, дискуссия после лекции профессора Райнерта — аудитория разделилась на два лагеря. Представители одного разными аргументами пытались доказать, что догнать никого уже не выйдет, и надо наконец отбросить свои «имперские фантазии», а вместо этого скромно пытаться перенять лучшие мировые практики в области технологий и бизнеса и закрепиться в роли «крепкого середняка», который хорошо умеет ориентироваться на лидеров и идет за ними на неком расстоянии. Представители противоположной точки зрения, напротив, утверждали, что шанс на рывок есть всегда, особенно у такой страны, как Россия, где и материальных, и человеческих ресурсов хватает, да и опыт истории страны показывает, что она явно способна на масштабные достижения.
Однако вряд ли стоит надеяться на какие-то невообразимые «нефтенанопрорывы» — перескочить в постиндустриальное будущее, минуя этап восстановления промышленности и инфраструктуры, не получится. Кроме того, успешная модернизация — это смена элит, чему они вряд ли будут рады. В данном случае последняя Олимпиада отлично показала, что никакие нефтяные деньги не сотворят чуда на ровном месте: там, где нет устойчивой системы, нет правил, потеряна преемственность, а главное — нет цели работать на результат, если он не приносит дохода прямо сегодня кругу «особо приближенных».
Как можно видеть на примерах многих стран, готовых рецептов экономического благополучия и уж тем более плана бросков с прицелом на лидерство нам никто не предложит, а если такие и есть, весьма спорной представляется их применимость в России. Удастся ли выработать свои? Ответ на этот вопрос, как кажется, лежит даже не столько в инструментальной сфере — то, что Россия относится к числу стран, которые потенциально могут очень и очень многое, доказывать не требуется, все уже доказано историей — сколько в области ценностей и смыслов. Если у нас и правда большинство граждан считает, что мы никого никогда не догоним, то так и будет — моральная капитуляция этому поспособствует ничуть не меньше, чем отстающая промышленность или недостаток научных достижений.
Автор: Маринэ ВОСКАНЯН, Андрей КОБЯКОВ
источник - http://odnakoj.ru/magazine/yekonomika/soberi_svoyu_modelq/
- Нет комментариев

katehon
Стратегия "Единой России"
модернизация россии, экономический кризис, кризис
Даже не ожидал. Он наверное там единственный здравомыслящий человек?
Депутат Госдумы РФ от «Единой России», директор Института политических исследований Сергей Марков рассказывает о своем видении стратегии преодоления последствий экономического кризиса партией власти. Эксперт считает, что нам необходимо отказаться от фундаменталистской либеральной экономики, срочно развивать инновации и поднимать уровень образования.
источник — http://www.russia.ru/video/diskurs_9977/
- 3 комментария

katehon
Особое_мнение___Среда__17.03.2010__Михаил_Хазин__экономист__президент_консалтинговой_компании_НЕОКОН
модернизация россии, кризис, борьба за власть, экономический кризис, В мире
...Особое мнение / Среда, 17.03.2010: Михаил Хазин
Дата : 17.03.2010 17:08 Передача : Особое мнение Ведущие : Ольга Журавлева Гости : Михаил Хазин О. ЖУРАВЛЁВА: Добрый вечер. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлёва. У нас в гостях Михаил Хазин, экономист, президент консалтинговой компании НЕОКОН.
М. ХАЗИН: Добрый вечер.
О. ЖУРАВЛЁВА: Вопросы можно присылать по номеру +7-985-970-45-45, телефонные звонки в сегодняшней программе тоже предусмотрены, 363-36-59, но об этом позже. Видеотрансляция на нашем сайте тоже есть. Темы дня у нас как раз экономические есть. Министр Авдеев у нас сделал такое заявление, что надо бы как-то поднять уровень нравственности и художественности нашего телевидения, но таким интересным способом, как запретить основным каналам пользоваться рекламой, а просто финансировать их из государственных средств.
М. ХАЗИН: как показывает опыт, просто запретить не получается. В 90-е годы у нас, как известно, каналы были ещё государственные, но народ занимался частным бизнесом и продавал минутки по мере возможностей. Тут нужно менять некоторую базовую систему. Существует на сегодня всё более усиливающее направление изучение экономики с точки зрения базовых ценностей. Что такое хорошо, а что такое плохо. Так можно, а так нельзя. Этим много кто занимается.
Этим активно занимается Ватикан, этим активно стала заниматься Патриархия, даже создала специальный Совет по экономике и этике. В апреле в Баку собирается устраивать.
О. ЖУРАВЛЁВА: Вы хотите сказать, что это будет связано непосредственно?
М. ХАЗИН: Эти вещи связаны. И если мы говорим, что нечто нехорошо именно как общественный запрет, то в этом случае это должно отражаться на телевидении. Но вообще говоря, эту систему нужно изучать тщательно. Если у нас основной элемент, основная цель существования – это нажива, то наивно рассчитывать , что телевизионщики должны от этого отказаться. Если у нас основная цель – справедливость, тогда давайте определять, кто будет это решать. Кто будет определять, что такое справедливость и как её применять.
И до тех пор, пока на эти вопросы ответа нет, говорить о том, что нужно что-то убрать, бессмысленно.
О. ЖУРАВЛЁВА: А зависимость? Когда человек работает за большие деньги или за идею, то ведь за идею он более нравственный, тонкий, чуткий. А когда большой рейтинг – большие деньги, можно показать что-то такое, как в западном канале показывали в шоу, как человека пытают током. Все с восторгом это смотрели.
М. ХАЗИН: Это неправильно, безусловно. Но это задача на самом деле в некотором смысле что называется общественного совета. Общество должно решать, что показывать можно, а что нельзя.
О. ЖУРАВЛЁВА: Так это то самое общественное телевидение, когда сидят какие-то люди…
М. ХАЗИН: Это немножко другое. В некоторых странах имеются общественные советы. Попробуйте в фильмах 50-х годов найти в Голливуде сексуальные сцены. Это было невозможно. Было чёткое представление, что можно, что нельзя. В Голливуде в 50-е годы секса не было. Хорошо это или плохо…
О. ЖУРАВЛЁВА: В индийском кино…
М. ХАЗИН: его нет и до сих пор в индийском кино. Давайте разбираться. Мы хотим, чтобы этого не было, этого не было. Что-то безусловно нужно убирать. Сегодняшнее телевидение смотреть невозможно. Некоторые каналы, которые… просто идёшь по каналам, смотришь… я не смотрю телевизор, поскольку это вредно для здоровья.
О. ЖУРАВЛЁВА: каждый человек говорит, что не смотрит телевизор. А откуда эти бешеные рейтинги?
М. ХАЗИН: ну, если за рейтинги платят?
О. ЖУРАВЛЁВА: Так это рейтинги фальшивые?
М. ХАЗИН: Как считать… Поскольку я занимаюсь экономикой, я могу сказать, как считается экономическая статистика. Там можно рассказывать байки часами. Или ещё один пример, ещё одна тема, которую мы сегодня хотели обсудить. Дмитрий Анатольевич у нас вчера наехал на правительство, что оно его дурит. Это же очень интересная тема. И в ней…
О. ЖУРАВЛЁВА: если можно, я процитирую Медведева. Он требует от аппарата правительства соблюдать сроки выполнения и поручения президента. Пожурил, что-то плохо работают. Была такая фраза: «Централизация или децентрализация – в правительстве определяйте, как лучше. Есть плюсы и минусы, а мне нужен результат»
М. ХАЗИН: Вот это самое главное, это ключевая фраза. Я руководил экономическим Управлением президента и представляю, как это устроено на самом деле. Случаи, когда бы президент дал поручение, а правительство вообще не ответило, они очень редки. Иногда правительство что-то пишет, типа «давайте отложим ещё на три месяца» и под какими-то там… ссылаясь на какие-то объективные обстоятельства. Но обычно оно что-то отвечает. И вот дальше начинаются проблемы.
Я просто приведу несколько примеров, которые на слуху. Пример первый. Рубль. Любимый вопрос отношения рубля к доллару. Полтора года тому назад была большая дискуссия нужно ли девальвировать рубль. Это была осень 2008 года. Мы говорили, что надо девальвировать, Игнатьев и Кудрин говорили, что не нужно. Прошёл год и в конце 2009 года Кудрин говорит, что была ошибка. Нужно было в 2008 году девальвировать сильнее, и в середине 2009 года не усиливать рубль.
И сегодня у Игнатьева и Кудрина разные позиции. Вопрос. Дмитрий Анатольевич Медведев, на основании какого решения, какого мнения вы должны выбирать – Игнатьев или Кудрин?
О. ЖУРАВЛЁВА: Личные симпатии, доверие.
М. ХАЗИН: Не годится. Ещё один пример. Тоже совершенно замечательный, он показывает немножко другую аппаратную тематику, совсем недавний скандал. Интернет-магазин eBay, утверждается, что он вот-вот перестанет работать с почтой России, потому что та не выдерживает сроки. Почта России говорит: «Я бы рада выдержать сроки. У меня увеличился объём отправлений в два раза, потому что Интернет-торговля дешевле чем в магазинах. Из-за кризиса народ беднеет. Я хочу. Но у нас есть таможня, которая работает медленно и поэтому я ничего не могу сделать».
При этом скорее всего это правда. Теперь вопрос. Как её можно решить? Нужно президенту, премьеру, неважно кому, сказать таможне: «Ну-ка ты, давай!» А таможне от этого ни жарко, ни холодно.
О. ЖУРАВЛЁВА: Она никому не подчиняется, нет рычагов?
М. ХАЗИН: Не в этом дело. А ей вот эта тема – отправления, которые идут по линии Интернет-торговли, по почте России, от этого ей ни жарко, ни холодно, по поводу каждого конкретного дела найдётся объективная причина, почему задержалось. Тут неправильно стояла запятая, тут ещё чего-то. И мы оказываемся в глупой картине, потому что DHL и почта – это серьёзные организации, они большие, у них есть некоторые возможности. Имеется много-много мелких. У мелких нет таких проблем, у них есть конкретный таможенник, с ним есть договорённость и пока у них 10 пакетов в день – всё хорошо.
Поскольку почта обижает, DHL обижает, что делает народ? Народ бежит в мелкие, где всё хорошо. Вместо 10 посылок в день получается 50. И у них начинаются те же самые проблемы. В результате все недовольны. У нас власть плохая. Дмитрий Анатольевич Медведев виноват. Вот это классический пример аппаратных проблем, т.е. эту проблему нужно решить так или иначе. Но затык не в том месте, где запрос.
О. ЖУРАВЛЁВА: А что тогда бедному Дмитрию Анатольевичу делать?
М. ХАЗИН: А есть третий вопрос. Ещё более замечательный. Есть такой человек – депутат Саратовской городской Думы Леонид Фейтлихер, он еврей, его взволновало то, что в его городе есть газета антисемитской направленности. И он написал Дмитрию Анатольевичу письмо. Личное письмо. В результате выяснилось, что за этими газетами стоят представители некой партии. Во-вторых, члены этой партии стали подавать на него в суд на моральный ущерб полмиллиона рублей, миллион рублей, непрерывно проигрывает.
Возникает вопрос. Первое – откуда эти люди узнали о личной переписке депутата городской Думы с президентом? Ну, тут можно предположить. Письмо пришло к президенту, президент сказал: «Разобраться», письмо пришло в область, там у этой партии сильные позиции и партия сказала: «Что это этот гад под нас копает!» Но давайте смотреть. Это же, грубо говоря, подстава президента. Там было много разных-всяких гадостей, вплоть до объявления во всероссийский розыск, после которого государство извинилось перед депутатом городской Думы, что это было сфальсифицировано.
Но сама по себе ситуация… Что здесь должен делать президент? Президент должен в этой ситуации вызывать прокуратуру, вызвать МВД и говорить: «Ну-ка, ребята, разберитесь!» Но у нас же как? Это же старая традиция, как только приходит какое-то письмо, оно спускается куда-то вниз. И в результате оказывается, что Дмитрий Анатольевич оказался в идиотском совершенно положении. На самом деле то, что он вчера сказал по всем направлениям – это попытка, судя по всему, как это… достали!
Это попытка объяснить, что больше такое безобразие продолжаться не может. В бытность моей работы в Администрации президента в 1997-98 гг. реально не исполнялось процентов 60-70 поручений президента.
О. ЖУРАВЛЁВА: Вы мне просто ответьте, эти решения президента не выполняются. Я поняла, что это не злая воля, это стечение обстоятельств.
М. ХАЗИН: Это не просто стечение обстоятельств, это отсутствие системы решения проблемы.
О. ЖУРАВЛЁВА: Так значит президент и его Администрация не построили пока эту систему.
М. ХАЗИН: Да, это проблема с менеджментом. Менеджмент – это люди. Здесь отсутствует система управления, потому что как президент будет влиять на членов некой партии в Саратове? Никак. Нет такого механизма влияния.
О. ЖУРАВЛЁВА: Так и не должно быть по идее.
М. ХАЗИН: А проблема-то есть, проблема президентская.
О. ЖУРАВЛЁВА: А почему человек пишет письмо президенту, если можно пойти и написать заявление в милицию.
М. ХАЗИН: А видимо он писал заявление в милиции, а его объявили во всероссийский розыск.
О. ЖУРАВЛЁВА: Это следующий этап.
М. ХАЗИН: Это право любого человека – написать президенту. Дальше. Если говорить о почте, то почта на аппаратном уровне – это ГУБ, ниже по рангу, чем фактически Министерство ГТС или Федеральная таможенная служба. Более того, ФТС – это силовая структура, она выше, чем большинство министерств. А как можно влиять? На кого жаловаться? Можно жаловаться либо премьеру, либо президенту. Но эта система не отлажена. У нас отсутствует система общественного контроля потому что в случае со всей этой историей, с телевидением и с депутатом саратовской Думы ситуация очень простая.
Теоретически этот вопрос должен решаться на уровне общества, а не на уровне президента.
О. ЖУРАВЛЁВА: Так не было у нас таких механизмов никогда! Откуда они должны взяться?
М. ХАЗИН: Нужно строить. И это должны делать люди.
О. ЖУРАВЛЁВА: А это чья ответственность?
М. ХАЗИН: Людей. У нас есть газета, в которой пытаются разыгрывать тему антисемитизма. Это очень опасная тема, потому что мы ругаем Украину за то, что Бандере дали Героя Украины. А сами?
О. ЖУРАВЛЁВА: Это наш сукин сын.
М. ХАЗИН: Да, но Украине-то это не объяснишь. И в этой ситуации народ должен сказать: «Что за безобразие!» Должны быть общественные организации.
О. ЖУРАВЛЁВА: Так мы опять возвращаемся к теме Авдеева и нравственности, потому что на самом деле большая часть населения с удовольствием относится к этой газете и с симпатией.
М. ХАЗИН: Ничего подобного. Я в своей жизни проявление централизованного антисемитизма я встречал, ещё, правда, в прежние времена, в бытность свою непоступления на механико-математический факультет МГУ, потом непоступление в аспирантуру. И это была абсолютно централизованная ситуация. А бытовой антисемитизм, я нигде и никогда… Просто не встречал.
О. ЖУРАВЛЁВА: Счастливый человек экономист Михаил Хазин сидит сейчас в студии «Особого мнения». А у вас есть возможность задать Михаилу те вопросы, которые вас волнуют, чтобы потом не ругаться, что самое главное не спросили. 363-36-59. Уже есть звонки. Прекрасные люди. Если ваш номер не определяется, извините, ничего не могу сделать. Только с официальными номерами работает. Вот этот звонок… Алло! Здравствуйте!
СЛУШАТЕЛЬ (по телефону): Алло! Добрый день. Меня зовут Роман, Москва.
О. ЖУРАВЛЁВА: Ваш вопрос Михаилу Хазину.
СЛУШАТЕЛЬ (по телефону): Я хотел ему задать скорее даже не вопрос, а сделать вывод, что он счастливый человек, потому что бытовых проявлений антисемитизма и настроений таких в нашем обществе я, например, видел на каждом шагу и среди знакомых и среди друзей. Так что так.
М. ХАЗИН: Может быть и повезло.
О. ЖУРАВЛЁВА: Давайте дальше. 363-36-59, ещё один вопрос. Алло! Здравствуйте! Вы в прямом эфире.
СЛУШАТЕЛЬ (по телефону): Алло! Владимир меня звать, я из Москвы. Я по поводу рекламы на телевидении хотел бы.
О. ЖУРАВЛЁВА: Скажите, есть у Вас вопрос, давайте.
СЛУШАТЕЛЬ (по телефону): Знаете, мне кажется, что ситуацию централизованного финансирования, которое бы возместила бы телеканалам потерю рекламных доходов, это ситуации не решит. Хотя есть неплохие примеры государственного телевидения, где практически отсутствует реклама, например, государственный канал «Мир», практически нет рекламы и он финансируется государствами СНГ, там можно посмотреть старые, добрые фильмы.
О. ЖУРАВЛЁВА: Так почему не решит, как Вы думаете?
СЛУШАТЕЛЬ (по телефону): Я думаю, что телеканалы сами не откажутся, это львиная доля их доходов. И не забывайте, что у нас на рекламном рынке два монополиста.
О. ЖУРАВЛЁВА: То есть, не дадут.
СЛУШАТЕЛЬ (по телефону): не дадут. Очень большие деньги.
М. ХАЗИН: На самом деле насчёт не дадут, была бы воля и проблем никаких нет. В 90-е годы на Первом канале была другая компания. Не Видео Интернешнл, эта тема закрыта, всё. Такая ситуация регулярно встречается в самых разных вариантах, много чего закрывали навсегда, даже то, где были довольно большие деньги. Проблема в том, что необходимо себе чётко представлять, что мы хотим. Если мы не знаем, что мы хотим, капитану, у которого нет цели никакой ветер не будет попутным.
О. ЖУРАВЛЁВА: ещё один звонок от наших слушателей. Ваш вопрос Михаилу Хазину сформулируйте заранее, сразу выводим в эфир. Алло! Здравствуйте!
СЛУШАТЕЛЬ (по телефону): Алло! Зовут меня Александр, я из Москвы. Михаил, я как-то пытался в интернете и в других средствах информации найти какую-то информацию о наших резервных фондах. И не нашёл. Вообще, это не фикция? И сколько денег реально сгорело?
М. ХАЗИН: Я не очень понимаю. Эта информации я открытая, она есть в Интернете.
О. ЖУРАВЛЁВА: Где? Расскажите людям.
М. ХАЗИН: На сайте Минфина она есть. Это не проблема. Я давно уже не смотрел на конкретные цифры, более-менее известно, что там происходит. У нас там есть какое-то количество денег, какое-то количество миллиардов рублей, 100-200, у нас два резервных фонда. Кроме того, есть разные тонкости. Хранятся они в ЦБ, в валютном виде, в нужном количестве Минфину передаются. Когда они закончатся, у нас Министр финансов на эту тему высказывался, что в оптимистическом случае – до конца следующего года, в пессимистическом – уже в этом закончатся.
О. ЖУРАВЛЁВА: На что они расходуются?
М. ХАЗИН: В основном расходуются на поддержку социальных расходов региональных бюджетов. Потому что у нас большой дефицит бюджетный и туда они и идут. И всё зависит, когда они закончатся от мировых цен на нефть, потому что чем выше цены на нефть, тем меньше нужно этих денег из фондов. Если цены на нефть упадут до 10-15 долларов за баррель, сценарий маловероятный, но теоретически возможный. Всё закончится очень быстро. Если поднимутся до 150, тоже маловероятно, но тоже возможно, они перестанут расходоваться, будут пополняться.
О. ЖУРАВЛЁВА: То есть, это не необратимый процесс, вот сейчас деньги закончатся в этой кубышке и помрём с голоду.
М. ХАЗИН: При нынешних ценах, если смотреть на наиболее вероятных интервал, от 60 до 80, они сокращаются. Закончатся где-то там к середине следующего года. Когда они были 50-60, то они должны были закончиться ещё до конца этого года, когда цена на нефть была 50-60. Но в любом случае то, что у нас дефицитный бюджет и этот дефицит в основном социальные расходы, это конечно проблема.
О. ЖУРАВЛЁВА: У нас в студии Михаил Хазин. Мы сейчас уйдём на перерыв. Но перед этим прочитаю пару сообщений. Вас просят прокомментировать 3% за оплату коммунальных услуг, - Ирина из Петербурга. Андрей говорит, что всё чепуха, что Вы говорите про таможню, потому что обычное письмо из Канады шло 2 месяца, видимо не в таможне дело. И вот замечательный вопрос от Тани из Петербурга: «Почему Вы так упорствуете в своём пессимизме?»
М. ХАЗИН: Давайте я отвечу попозже. Я на самом деле большой оптимист. Знаете, оптимисты учат английский, пессимисты китайский, а реалисты – автомат Калашникова. Вот надо чётко совершенно понимать, что сегодня надо быть реалистом.
О. ЖУРАВЛЁВА: То есть, Вы уже к автомату Калашникова обратились, вслепую разбираете и собираете. Хороший у нас реалист в студии. Напомню, что в студии «Особого мнения» сегодня Михаил Хазин, экономист, президент консалтинговой компании НЕОКОН. Меня зовут Ольга Журавлёва, никуда не уходите. Мы ещё продолжим наши разговоры в «Особом мнении». Телефон для связи +7-985-970-45-45. Видеотрансляция на сайте «Эхо Москвы» предусмотрена. А те, кто смотрит по телевидению, у тех и так всё в порядке. Никуда не уходите, скоро вернёмся.
НОВОСТИ
О. ЖУРАВЛЁВА: И снова с вами программа «Особое мнение». Наш гость сегодня Михаил Хазин, экономист, президент консалтинговой компании НЕОКОН. Наш телефон для связи +7-985-970-45-45. И вот что нам тут понаписали. Вдогонку к тому, что Вы рассказывали про Саратов, Сергей из Саратова пишет: «Фельтлихера объявили в розыск по другому делу, за то, что он придурка назвал придурком».
М. ХАЗИН: Враг народа, безусловно. Даже вопроса нет.
О. ЖУРАВЛЁВА: Дело известное. Не Вы придумали.
М. ХАЗИН: Перед ним извинилось государство. Значит признало, что придурок.
О. ЖУРАВЛЁВА: Это может быть личное мнение Сергея из Саратова. Он так воспринимает происходящее событие. Миллион вопросов по поводу того, что будет с долларом и что будет с Грецией, а соответственно с евро.
М. ХАЗИН: А мы сейчас этот вопрос раскроем.
О. ЖУРАВЛЁВА: По этому поводу я сошлюсь на некоторую информацию. Сначала про Европу. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что в базовые европейские соглашения необходимо внести механизм исключения государств из валютного союза. Тут же вспоминается, что всё было хорошо и замечательно, можно было брать кого угодно в Союз, а сейчас с некоторыми плохо себя чувствуют. Все подумали про Грецию, может быть про Исландию. А Вы про что подумали?
М. ХАЗИН: Греция – любимая тема. Ситуация очень простая с точки зрения философской. Были некоторые правила игры, в соответствие с которыми кто больше взял в долг, тот и прав. И долги никого не волновали, потому что всегда можно было взять в долг ещё больше и их погасить. Правильные это были правила игры или нет – вопрос бессмысленный. Они действовали на протяжении почти 30 лет. И вдруг неожиданно выяснилось где-то года полтора тому назад, что эти правила больше не работают.
Вместе с тем, грекам, исландцам и ещё кому-то, кстати, и частично американцам, об этом мы ещё скажем, про Обаму. Было предложено в рамках старых правил заплатить, расплатиться за эти долги. А греки стали бузить, как впрочем и исландцы на референдуме отказались платить эти долги, исходя из следующей логики. Они может этого не понимают в экономическом плане, но зато они понимают в человеческом, с точки зрения справедливости.
Если правила меняются, то в этом случае прежде чем платить долги, нужно определиться, какие будут новые правила, и потом понять, кто какую долю этих долгов платит. Грубо говоря, банкирам бонусы не снизили, почему народ должен платить? А это такой, очень упрощённый, вариант. Но тем не менее, он соответствует некоторой реальности. Если меняются правила игры, то не нужно расплачиваться по старым долгам в рамках старых правил до тех пор, пока не будут понятны новые.
О. ЖУРАВЛЁВА: Здесь вот, в этой фразе Меркель, это предложение пересмотреть некие условия.
М. ХАЗИН: Меркель чётко совершенно поняла, что в рамках старых правил Евросоюз существовать не может. Евросоюз изначально возник, как объединение государств с разными типами экономик. Условно говоря, северный и южный. Северная экспортировал товары с высокой долей добавленной стоимости, грубо говоря, машиностроение. Южная экспортировала продовольствие, еду, и жила за счёт иностранного туризма. Южные страны всегда в условиях кризиса, когда резко падал туризм, выходили из положения тем, что увеличивали дефицит бюджета и соответственно ослабляли свою валюту.
Так жила и Португалия, и Испания, и Италия, и Греция. И чем скорее девальвируется валюта, тем выгоднее туда туризм. Они ещё увеличивали туризм. Как только стало евро, было изначально понятно, что у них будут в этом месте проблемы. Но предполагалось, что у Евросоюза в целом в рамках непрерывного роста хватит ресурсов, чтобы эту дырку закрыть. Сегодня выяснилось, что ресурсов не хватит. Меркель об этом говорит потому, что вернуться Италии к лире, а Греции к драхме и девальвировать их – это выход, который позволяет очень многие из проблем решить.
Но юридически такого механизма не было. То есть, она в некотором смысле озвучила один из вариантов решения проблемы. В некотором смысле это часть новых правил.
О. ЖУРАВЛЁВА: Если Грецию выгнать, ей только лучше будет.
М. ХАЗИН: Ей будет лучше. Теоретически она может объявить дефолт. А та же самая картина в США.
О. ЖУРАВЛЁВА: Здесь цитата из Обамы. Он призвал к проведению реальной финансовой реформы. В ходе своего выступления перед Банковским комитетом Сената призвал к проведению реальной финансовой реформы. Как отметил глава государства, реформа должна защитить налогоплательщиков от недобросовестности и безответственности финансовых институтов США.
М. ХАЗИН: Давайте переведём на русский язык.
О. ЖУРАВЛЁВА: Давайте.
М. ХАЗИН: За последние 30 лет доли финансового сектора в прибыли корпорации увеличилась больше чем в два раза. Была чуть больше 20%, стала 50%. Они отъедались, отъедают половину всего того общественного пирога, который образуется в стране. До тех пор, пока они, финансисты, обеспечивали экономический спрос с 1981 года, за счёт кредитования спроса, к ним никто не предъявлял никаких претензий. Сегодня уже понятно, они больше этим механизмом обеспечивать спрос не могут.
О. ЖУРАВЛЁВА: То есть, опять, старые правила при новой игре.
М. ХАЗИН: те же самые. Им говорят: «Ребята, давайте разберёмся, что народ платит – мы понимаем. Вы что будете платить?» А они говорят: «А мы не хотим. Нам нравятся старые правила».
О. ЖУРАВЛЁВА: Выхода нет?
М. ХАЗИН: Это конфликт. Нет выхода. Без придумывания нового правила, исчерпание конфликта невозможно.
О. ЖУРАВЛЁВА: Надежда только на то, что кто-то с Марса к нам прилетит и придумаем нам новые правила.
М. ХАЗИН: никто не прилетит, а если и прилетит, то не будет придумывать правила. Это наши проблемы. Банальная совершенно ситуация. У меня дочери 12 лет, она в некоторый момент объясняет: «А я тут хочу. Я считаю, что я имею вот это право делать». И невозможно… Когда ей было пять лет, можно было сказать: «Иди и не выпендривайся», сейчас ей 12 и если ей сказать, что она не имеет права, когда ей будет 18, будет кошмар.
О. ЖУРАВЛЁВА: А можно объяснять.
М. ХАЗИН: Можно объяснять, но нужно чётко понимать, что она растёт, и ситуация меняется.
О. ЖУРАВЛЁВА: С народами и странами та же проблема?
М. ХАЗИН: С экономикой та же проблема. Экономика развивается. И в некоторый момент она развивалась и стало понятно, что больше туда расти нельзя, нужно расти в другом направлении. И совершенно неважно, нравится это кому-то или нет. Это объективная ситуация. В 70-е годы в США был жуткий кризис, 10 лет. Придумали некую модель – рейгономику. И при этом кто-то пострадал. Я могу сказать кто. С 1947 года до 1972 года зарплата рабочих непрерывно росла. А с начала 70-х она не росла. Реально располагаемые доходы населения в США с 1981 года не увеличились.
Потребление увеличилось, но за счёт роста долга.
О. ЖУРАВЛЁВА: Ну да, всё было в долг, всё в кредит.
М. ХАЗИН: А теперь с этим долгом что-то нужно делать.
О. ЖУРАВЛЁВА: Михаил, если можно, ближе, что называется, к телу. Осталось три минуты. Что Вы думаете по поводу 3%, которые хочет взимать Сбербанк за уплату коммунальных услуг.
М. ХАЗИН: Он и раньше их взимал, но с других лиц. Я считаю ,что это большая ошибка.
О. ЖУРАВЛЁВА: А какой выход для народа?
М. ХАЗИН: Никакой. Теоретически можно…
О. ЖУРАВЛЁВА: По интернету, по всяким…
М. ХАЗИН: Но не будут бабушки по интернету платить. Это абсолютно невозможно. Там есть свои проблемы с электронными деньгами, платёжки, они будут теряться и ещё чего-то. Я думаю, что нужно устраивать акции протеста.
О. ЖУРАВЛЁВА: Да что Вы говорите! Тогда другая новость, жизненная и простая. Собираются у нас закрывать обменники. Тоже может быть уже народ…
М. ХАЗИН: С точки зрения государства, когда я был чиновником, я всегда говорил, что нужно оставить три банка с валютной лицензией и закрыть все обменники. Внутри нашей страны у нас есть одна валюта – рубль. Если кто-то выезжает, можно придти в Сбербанк и поменять.
О. ЖУРАВЛЁВА: А эта старая, добрая привычка последних 15 лет – всё хранить в долларах? Надо избавляться от неё?
М. ХАЗИН: Это результат неправильной политики государства, которое не даёт гражданам возможности использовать инструменты накопления. Сегодня куда более интересный способ хранения – это золотые монеты.
О. ЖУРАВЛЁВА: То есть, Вы со Стерлиговым солидарны? Он в золото верит.
М. ХАЗИН: Неважно, верит или нет, это просто объективная ситуация. Он же не просто так верит, много кто ещё верит. Объективная ситуация.
О. ЖУРАВЛЁВА: Хорошо. По последним новостям. С автопромом коротко ответьте, пожалуйста. Почему у нас упала продажа легковых автомобилей на 60%? Потому что деньги закончились или потому, что автомобили плохие у нас?
М. ХАЗИН: Закончились деньги. Потому что у людей на самом деле… у нас обрушились финансовые пузыри на рынке недвижимости, в потребительском кредитовании и упал вторичный спрос. У людей нет денег на покупку машины.
О. ЖУРАВЛЁВА: Говорят, до уровня 1972 года автопром упал.
М. ХАЗИН: Да, а в кредит не дают. Это объективная ситуация. Теоретически её нужно менять. Вот тут как раз может речь идти о политике государства. Государство это пока делает хило. Но между нами говоря, если бы государство провело бы конкурс на управление АвтоВАЗом и снизило бы реальные внутренние издержки АвтоВАЗа, то цена могла бы сильно понизиться, и количество желающих купить могло бы резко вырасти.
О. ЖУРАВЛЁВА: То есть, какие-то проблески есть.
М. ХАЗИН: Нет, много чего можно сделать, я бы даже сказал, что очень много. Только это надо делать. А мы видим, что президенту предлагают, а результат…
О. ЖУРАВЛЁВА: А включаешь – не работает. Михаил Хазин, экономист, президент консалтинговой компании НЕОКОН был гостем «Особого мнения». Меня зовут Ольга Журавлёва. Всем спасибо. Всего доброго!
источник - http://echo.msk.ru/programs/personalno/664105-echo.phtml
- Нет комментариев

katehon
модернизация россии, что делать?, что происходит?, кризис, просто о сложном, социология, не пожалеете, !!!Ахтунг!!!, Повод задуматься
Не поленитесь - прочитайте. Очень цельный анализ.
.
Данная публикация представляет собой расширенную авторскую версию доклада социолога Андрея Фурсова на круглом столе «Опричнина и опричная идея: мифы и историческая действительность» в Институте динамического консерватизма.
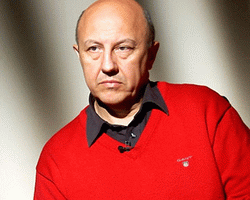 .
.- Скоро подует восточный ветер, Уотсон.
- Не думаю, Холм. Очень тепло.
- Эх, старик, Уотсон. В этом переменчивом
веке только вы не меняетесь. Да, скоро
поднимется такой восточный ветер,
какой ещё никогда не дул на Англию.
Холодный, колючий ветер, Уотсон, и,
может, многие из нас погибнут от его
ледяного дыхания. Но всё же он будет
ниспослан богом, и когда буря утихнет,
страна под солнечным небом станет чище,
лучше, сильнее.
.
А. Конан-Дойл. Его прощальный поклон
.
.
И от ветра с Востока пригнулись стога,
Жмётся к скалам отара.
Ось земную мы сдвинули без рычага,
Изменив направленье удара.
В. Высоцкий. Мы вращаем землю
Опричнина — ключевое событие русской истории последних пяти веков. Именно она заложила фундамент той уникальной формы власти — автосубъектной, — которая мутировала, слабела, возрождалась, менялась и почти при каждой серьёзной смене не только оставалась самою собой, но и приобретала всё более чистую, свободную от собственности и «классовых привесков» (В.В. Крылов) форму — la plus ca change, la plus c'est la meme chose («чем больше меняется, тем больше остается собой»).
Более того, опричнина стала не только фундаментом, но одновременно и эмбрионом этой власти, которой суждено было развиваться по схеме «преемственность через разрыв».
Наконец, опричнина подарила русской истории один из её главных (неглавных больше) принципов — опричный, который, отрицая княжебоярский принцип, оттолкнувшись от него, породил принцип самодержавный и таким образом оформил и, если угодно, замкнул триаду, придав обоим принципам самостоятельный характер и заставив их жить собственной жизнью. И в этой собственной жизни каждого принципа именно опричный связывает самодержавно-национальный («народный») и олигархический (княжебоярский) принципы и в известном смысле снимает (в гегелевском, диалектическом, смысле) противоречия между ними.Опричнина, как и её создатель Иван Грозный, — оболганное явление нашей истории, порой сознательно, порой от непонимания. Оболганное как большими мастерами науки и литературы (например, на первых страницах замечательного романа А.К.Толстого «Князь Серебряный» мы сталкиваемся с некими мерзавцами, коими оказываются опричники. Конечно же, среди опричников, как в любой «чрезвычайке», хватало «биологических подонков человечества» (И.Солоневич), но суть-то явления ускользнула от «второго Толстого». Как ускользнула она и от мелкой шантрапы от тех же науки и литературы, а теперь ещё и кино (достаточно вспомнить фильм «Царь»).
В докладе я хочу остановиться на нескольких вопросах:
1) опричнина как историческое явление, его корни — они столь же необычны, как сама опричнина;
2). фактическая сторона дела — очень кратко, основные вехи;
3) суть опричнины, её причины, последствия — кратко-, средне- и долгосрочные;
4) опричный принцип русской истории в противовес олигархическому и самодержавному, с одной стороны, и институциональному, с другой;
5) реализация опричного принципа в русской истории;
6) «грозненские» (Иван IV, Сталин) и «питерская» (Пётр I) версии опричнины;
7) нужна ли и возможна ли в России сегодня (или завтра) новая опричнина (неоопричнина) или, точнее, нужно ли и возможно ли возвращение опричного принципа в той или иной форме, и если да, то какова может быть цена.

А. Васнецов. «Оборона Москвы от хана Тохтамыша. XIV век».
.
 В. Васнецов. «Царь Иван Грозный».
В. Васнецов. «Царь Иван Грозный».
Н.Неврев. «Опричники»
.
 И.Тихонов. "Опричник"
И.Тихонов. "Опричник".
 Древнерусская книжная миниатюра "Иван Грозный принимает послов из Сибири"
Древнерусская книжная миниатюра "Иван Грозный принимает послов из Сибири".
.

.

.

.
источник - http://www.dynacon.ru/content/articles/381/
- 3 комментария

katehon
Особое мнение - 10.03.2010: Михаил Хазин, экономист
экономический кризис, модернизация россии, что делать?, что происходит?
- Нет комментариев

katehon
Япона… демократия
социология, модернизация россии, В мире

Восточная система управления обществом благодаря заложенным в ее основу ценностям позволяет успешно конкурировать с западной моделью
Существующая восточная система управления обществом по умолчанию отличается от европоцентристской модели управления, поскольку заложенные в ее основу ценности капитально отстоят от европейских идеалов обустройства социума.
Путь Поднебесной к меритократии не исчисляется последними десятилетиями и имеет давние традиции. Вообще, в определенные моменты истории страна была гораздо ближе к созданию этой системы.Японская модель управления заслуживает отдельного внимания. Ее социокультурный тип полностью соответствует признакам «закрытого общества»: партикуляризм, приоритет синтеза, коммунитаризм, экстравертность, синхронное и циклическое восприятие времени, статусократию, иерархичность (в противоположность «открытому обществу»).
Сильное влияние на формирование японского строя оказала этика самураев, которая сложилась как синтез мировоззрений синтоизма (с центром в культе местных богов и предков), дзен буддизма (с учением о бесконечной цепи перерождений и статусом в жизни, обусловленном предыдущими жизнями) и конфуцианства (с почитанием иерархических структур, старших, с приданием важного значения личностным, в первую очередь, семейным и родовым отношениям).
В японской системе механизма, интегрирующего мир, отсутствует личностный Бог, как центральный координатор, «невидимая рука». Вместе с тем, чувство уязвимости от природных катастроф, этническая однородность, древняя привязанность к возделыванию культуры риса, требовавшего коллективных усилий деревенской общины, способствовали выработке группового сознания («японского группизма»), при отсутствии в нем внешнего координирующего дополнения. Все участники должны были сами, стремясь к взаимодействию, добиваться общей гармонии целого.
Именно эта этика легла в основу известной японской системы менеджмента, основанного на коллективизме и патернализме. Экономический успех Японии после Второй Мировой войны показывает, что групповая и коллективистская мораль может в не меньшей степени чемпротестантский индивидуализм служить основой современного экономического развития.
При этом, говоря в общем, в дальневосточной японо-китайской цивилизации четкого разделения социальной и экономической сфер до сих пор не произошло. Японская корпорация продолжает выступать не только как экономическая, но и как социальная единица - и это является краеугольным камнем японского менеджмента. Японские корпорации продолжают образовывать «сообщества сообществ», смыкаясь в интересах нации и государства перед иностранным конкурентом, вторгающимся в их сферы влияния, в особенности на внутреннем рынке.
Руководители японских корпораций в основном имеют техническое образование, разрыв в зарплатах руководства и персонала не превышает 4-6 раз - в США же руководители в основном экономисты и юристы, а разрыв в зарплатах доходит до 50. Отношения между предприятиями строятся не только на чисто рыночных связях, но и на неформальных, зачастую нерыночных отношениях.
Успех сопутствует дальневосточной модели, в чем можно убедиться не только на примере Японии, где отбор той же бюрократии идет скорее по китайскому, чем по западному образцу. Эта система носит название «меритократия», т. е. «власть достойных» (от лат. meritus - достойный и греч. єБ±ДїВ - власть, правление). Именно это определение наиболее точно описывает сложившуюся в современном Китае систему управления. Правда, ради нее стране пришлось преодолеть догматизм маоизма – восточной формы эгалитарной демократии.
Доминированием «равенства конкуренции» над «равенством результата» Дальний Восток подходит под определение платоновского Государства, в котором правят мудрецы, а не банкиры.Путь Поднебесной к меритократии не исчисляется последними десятилетиями и имеет давние традиции. Вообще, в определенные моменты истории страна была гораздо ближе к созданию этой системы. Карьерный рост кандидата в чиновники (ши), начиная с эпохиТан, был связан с овладением им достойным знанием (чжи) и способностью к сознательному действию (син). Сохранить за собой должность или перейти на более высокую чиновник мог только посредством сдачи экзамена. Во времена династии Сун широко использовалась трехступенчатая система экзаменов, с помощью которой на роль правителей отбирались претенденты, лучше других понимающие искусство, конфуцианство и административные проблемы.
Современный Китай, используя дешевую рабочую силу, делает ставку на высококвалифицированный государственный менеджмент. При этом стоит обратить внимание на то, какими темпами в Китае развивается образование: в списке 500 лучших вузов мира полтора десятка китайских - и только два российских. Мало этого: даже США уже признали превосходство азиатской науки.
Отбор элиты начинается именно в системе образования. Основой здесь служит уверенность в том, что существует лишь ограниченное число талантов, и что важная функция системы заключается в том, чтобы они не пропали впустую, отдавая свои способности на благо государства.
Меритократия подчеркивает равенство скорее конкуренции нежели результата, устанавливая, что положение в профессиональной иерархии занимается благодаря заслугам по универсальным, объективным критериям. Меритократия - это наилучшая форма управления в условиях огромного населения.
Однако, при этом нужно понимать, что коллективное бессознательное китайцев сформировано не только религиозными философиями - созерцательной отвлеченностью даосизма, метафизичностью и коллективизмом конфуцианства, общинностью, - но и историей. При том, что им неоднократно приходилось вести войны с различными кочевыми народами вплоть до «восточного переселения народов» (IV-VI вв.), наиболее грандиозные операции китайцев за гегемонию происходили внутри Китая времен «Семи борющихся царств» (V-III вв. до н. э.). Поэтому, можно сказать, что «глаза» китайского «коллективного бессознательного» обращены внутрь.
Доминированием же «равенства конкуренции» над «равенством результата» Дальний Восток подходит под определение платоновского Государства, в котором правят мудрецы, а не банкиры. Однако, следует помнить, что меритократия, как и любая форма правления, уязвима и склонна к перерождениию, которому может противостоять только «соучастие» народа.
Дальний Восток своими экономическими успехами показывает, что западная модель разделения экономического и социального, рассматривающая социальную сферу лишь в качестве нахлебника потребителя ресурсов, во многом слабее, чем модель, учитывающая многообразные прямые и обратные связи между экономической и социальной сферой.
Самая главная из этих связей состоит в том, что первичная социализация рабочей силы происходит именно в социальной сфере на уровне семей и локальных сообществ. При разрушении этих элементов общества экономика уже не может получать дисциплинированную, добросовестную и квалифицированную рабочую силу. Процесс смягчения ограничений на пути максимизации прибыли не может продолжаться до их полной отмены. Это - тупиковый путь.
Кирилл Мямлин
- Нет комментариев

katehon
2010-02-10 - Казахстан - антикризисный опыт
кризис, экономический кризис, модернизация россии
С 2000 по 2007 год казахская экономика прибавляла в среднем 10% в год. Мировой кризис затормозил рост ВВП этой страны. В 2008 году он прибавил немногим более трех процентов. Ожидания на 2009 год были и того хуже, Международный валютный фонд прогнозировал снижение ВВП на два процента. Однако, несмотря на сложные времена, экономика Казахстана по итогам прошлого года оказалась в положительной зоне. ВВП вырос на 1,1 процента. Благодаря чему удалось добиться таких результатов? Опытом делится Председатель Национального Банка Республики Казахстан Григорий Марченко.
- Нет комментариев




